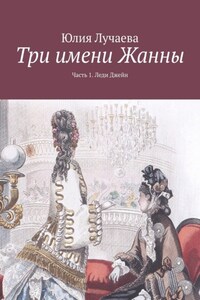Энтони Талбот едва дождался утра. Не смыкая глаз после нескольких приемов, на которые он был приглашен и которым не отказал ни одному, выпив все шампанское и весь эль, что подавали, он ввалился в свой дом на Пикеринг-плейс, более скромный, чем дом на Итон-сквер у Латаймера, но не лишенный своего очарования ввиду наличия во дворе одного из старейших домов виноторговли Британии, который был основан еще сто лет назад. Магазины, окружающие двор здания и коридор с Сент-Джеймс-стрит радостно принимали всех джентльменов из многочисленных клубов, расположенных поблизости, что в каждый отпуск позволяло капитану Талботу быстро найти подходящую компанию и не менее быстро оказаться дома, а утром выглядеть гораздо бодрее своих собеседников за счет пары лишних часов сна.
В эту ночь он пил много. Не шла у него из головы сверкающая графиня де Леви с ее черными глазами. Взглядом как огнем жгла. И нельзя было думать о ней, Генри ведь его друг… И не думать – нельзя. А пить – можно! Вон сколько эля еще в погребах… Залить все им: и этот чертов отпуск, и это посольство, и Латаймера с его кузиной, с глазами ее, черт…
К утру Талбот все-таки обрел силы вернуться в свой дом, хотя и нашел вход в него не с первого раза. Дворецкий у него тоже имелся, но был попроще и так давно, что тоже считал себя родственником барону Талботу, упокой, Господи, души его бедных родителей: видели бы они, каков их сынок! А ведь сэр Энтони подавал такие надежды! Мог бы с дружком своим, Латаймером, денег сделать в Африке, уже бы в Белгравии жили… Нет, взялся одно твердить: армия делает мужчину – мужчиной. А теперь этот мужчина лежал в холле полумертвый и, если его пошевелить немного, будто воскресал и шептал: «…Искры… Глаза ее…».
– Оставь меня, Дорсет, я уже тре-з-в. – уверенно сказал барон Талбот дворецкому и сел на ковре в прихожей более-менее ровно. Язык его не слушался, но хоть немного был подвластен. Чего нельзя пока было сказать о ногах – им требовалось время, чтобы вспомнить свое истинное предназначение.
Несмотря на эту досадную ночную заминку, уже в одиннадцать утра, бодрый, умытый и переодетый в чистый мундир, барон Энтони Талбот стоял на пороге дома Генри Латаймера, настойчиво стуча в дверь – не имея привычки сдаваться никогда, уж завтрак со старым добрым другом в Её присутствии он решил пережить.
Моррисон открыл двери и, не глядя, кто на пороге, почтительно отступил. Лицо его было мрачным, и сам воздух в этой богатой прихожей стоял тревожный, будто кто-то при смерти… Весь холл был уже уставлен корзинами с цветами для графини де Леви, поднос с визитками являл собою самую высокую пирамиду в мире, могла ли хоть одна примадонна Ковент-Гардена похвастаться таким количеством поклонников после удачной премьеры? Однако, напряжение и мрак витали в воздухе, сгущая его. Встревоженно, опережая дворецкого своего друга, Талбот вбежал в кабинет и увидел там Генри, сидящего за письменным столом возле телеграфа. Вокруг обстановка напоминала взрыв: по полу валялись осколки пепельниц и лампы, стул был сломан, бумаги разбросаны, складывалось впечатление, что в этом небольшом помещении дралось на саблях не меньше бригады всадников. Руки мистера Олтона, разбившие все это и разбитые, как и их владелец, тряслись, волосы упали на лоб и по низко опущенному лицу можно было подумать, что он плачет.
Он не плакал.
Смелый, предприимчивый, сильный и уверенный в себе, сэр Генри Гаррингтон, барон Латаймер, граф Олтон после того, как в ужасе пробегал всю ночь по улицам Лондона вместе с частными сыщиками в поисках Жюли, которой и след простыл, не плакал. Ни звука не прорывалось из его каменной груди. Все оставалось внутри, лишь в деталях выпуская наружу то искру боли, то высокую температуру гнева. Даже сидеть сэр Генри спокойно не мог: он менял положение, словно отталкиваясь от стола, от спинки стула, от всего, что прикасалось к нему в этом, в одночасье ставшим враждебным, холодном и пустом мире.