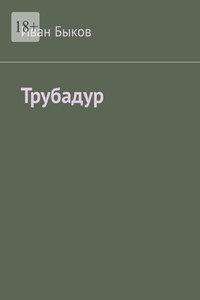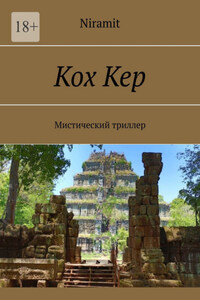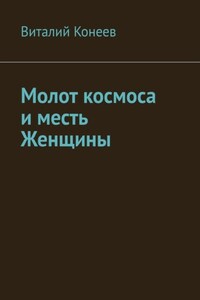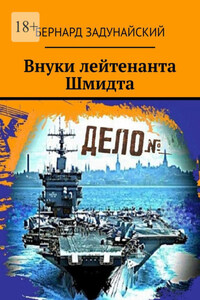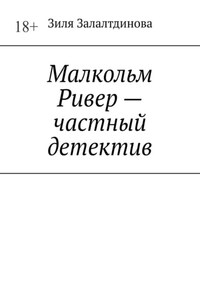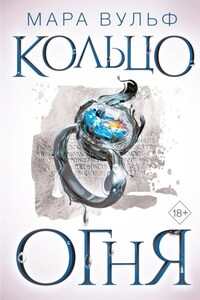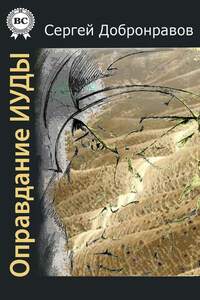Надежда умирает последней. Так говорят люди. Неправду говорят. Не умирает надежда. Особенно в пути. В долгом опасном пути по тем землям, в которых никогда не был, о которых лишь слышал в древних песнях от бродячих сказителей; по тем землям, о которых сам пел на площадях и в тавернах. Как можно потерять надежду в пути, если только она одна и ведет тебя к сказочной цели? Это все равно что лечь и умереть – отдать себя на растерзание палящему солнцу, вездесущему голоду, случайным мародерам и диким псам.
За мучительные километры пути время перестало быть осязаемым, перестало распадаться на составляющие части. Черные ночи и белые дни растушевались, расползлись в сплошной серый тон. Время превратилось в расстояние, а расстояние он измерял людьми, поселениями, песнями – сочиненными или услышанными, едой, кружками эля, схватками, ожогами, ранами, Шлюхами и редкими драгоценными книгами. И всего этого было пройдено предостаточно. Предостаточно для смерти целого десятка надежд. Если бы надежда могла умереть – не важно, первой или последней. Но надежда все-таки не умирает.
Тряпица, в которую он прежде заворачивал хлеб и которую использовал как скатерть, была разорвана на лоскуты и теперь стягивала голень его левой ноги. Эта ненадежная повязка почернела от пыли и заскорузла от крови. Ступать на поврежденную ногу было больно, каждый шаг становился преодолением. Таблетки и мази от Лекаря кончились так некстати. Вряд ли кратковременный привал и скудная еда подарят хоть какой-то отдых, но если не сделать остановку, то последние силы иссякнут и никакая надежда не спасет путника – его одинокий путь закончится здесь.
Поэтому, едва найдя среди загорелых за века пустынных валунов клочок земли, свободный от мелких острых камней, он позволил телу относительный покой. Все порезы, рваные раны, растяжения, ушибы и потёртости тут же напомнили о себе. Под горячей выцветшей банданой пекли завитки ушей. Нос (если бы он мог рассмотреть свой нос) был похож на молодой картофель – он когда-то видел в одном поселении такой розовый клубень с шелушащейся кожицей поверх желтой крахмальной плоти.
Тряпица-скатерть ушла на повязку, поэтому еду он выложил прямо на землю. Ломоть черствого хлеба, пара тонких полосок солонины из мяса мохоеда, пучок съедобных лопухов, что сорвал неподалеку. Сделал несколько глотков из фляги. У теплой воды был металлический привкус. Некоторое время выискивал крошки по сокровенным углам сумы и меж её складок. Ничего не нашел, отложил суму, глянул в небо.
Солнце клонилось к Западу и готово было спрятаться за хвостом Дракона. Скоро сумерки превратятся в ночь, а ночь не время для странствий. Как и середина дня. И днем, и ночью смерть караулит на открытой местности. Ночью смерть рычит и скалиться из мрака со всех сторон, шипит из-под каждого камня, роет ловушки в пыли, а днем норовит изжарить путника между двумя раскаленными противнями – меж каменистой пустыней и безоблачным ослепительным небом.
Пора было идти. Нужно было найти ночлег засветло. Спрятал флягу, двумя лямками через плечи закрепил суму на спине. После отдыха нога разболелась пуще прежнего. Он двинулся вслед за Солнцем, вначале осторожно, но с каждым новым шагом привыкая к боли, пока не вошел в привычный ритм – четыре шага на вдох, четыре шага на выдох.
Тело его ослабло и повиновалось неохотно: давала знать недавняя схватка с дикими псами на пустыре между останками полудюжины развалившихся лачуг. Прежде пустырь был центральной площадью крохотного поселка. Теперь от жилищ остались лишь одноэтажные коробки, без крыш, с провалами окон и дверей. Мертвая деревня за Долиной слез.