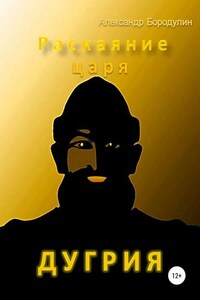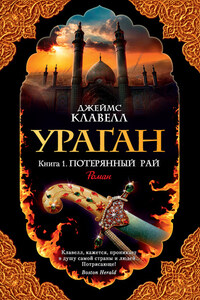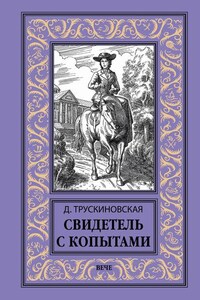Год тысяча девятьсот восемнадцатый прожили.
Его последний декабрьский день тек на диво тихо и светло. А в окраинной городской слободе и совсем весенняя благодать: бьет с крыш обильная капель, плавится на припеке снег, озабоченно чиликают под стрехами обманутые теплом воробьи. Домовладельцы, словно коты, вылезли на солнышко, разморенно греются на лавочках и в ожидании заветного часа, когда можно сесть за новогодний стол, толкуют про мировую революцию. Слобода заселена перекупщиками калмыцких лошадей, живет крепко, по единственной ее улице плывут запахи мясных пирогов, свежевыпеченного хлеба, а то шибанет в нос острая самогонная струя. Смелеют языки, примеривают мировую революцию к слободской жизни и так и этак, – как примеривают насильно всученную обнову. Но как ты ее ни крути, как ты ее ни примеривай, жмет она слободскую жизнь до невозможности, а у горла намертво перехватывает. И висят над лавочками вздохи:
– Хороша советска власть…
– Ох и хороша!
– Хороша-то хороша…
– Да чтой-то долго, граждани, протянулась!
– Нонешний год – чирк! – и жизню нам на тринадцать дней подсократила. Легли спать в ночь на первого февраля, утречком проснулись четырнадцатого февраля. Вот анчихристи! Не знаешь теперя, по-каковски и времю считать.
– То ли будет! Нашел об чем тужить…
Слободская улица выбегает на солончак, а солончак пылает под солнцем бело, нестерпимо – нельзя смотреть. И в ту сторону не смотрят, глаза берегут, глаз перекупщику нужен острый, цыганский. А глянули – обомлели: мировая революция – вот она, стоит перед ними босая, в растерзанных малиновых галифе, в женской шали, перехваченной крест-накрест патронными лентами с пустыми гнездами. Из-под островерхого, невиданного доселе шлема у мировой революции бездонно и жутко чернели провалы глазниц, только их и можно было заметить на объеденном голодом лице.
– Что это? – спросил странный человек, всасывая глазами сытых. – Плохо я вижу.
Из белого пламени солончака выползал, вытягивая за собой повозку, мосластый верблюд. За ним шли люди. Люди шли? Тени шли… Брело, спотыкаясь и падая, человеческое страдание.
– Что это? – нетерпеливо поднял голос вышедший первым. – Что?
– Форпост, – сказали ему. – Астрахань, мил человек.
– Астрахань, – повторил он, мгновенно слабея голосом. – Дошли.
И упал.
Самый зоркий разглядел, предупредил шепотом:
– Беда, граждани… Вши на нем. Массыя!
И попятились от него, как от прокаженного. Слобода затворилась и в ужасе смотрела, как из солончака, словно из преисподней, выползала Одиннадцатая армия. И не знали сытые, что им придется месяцами смотреть на это шествие, потому что оно растянулось на все необозримое пространство ногайских степей. А там, у далеких предгорий Кавказа, эта армия, отступая, еще дралась. Дралась, иссушенная голодом, раздетая, безоружная, сжираемая тифозными вшами. За мировую революцию дралась. Страдала за нее, как никто, нигде, никогда не страдал.
Рабочая Астрахань открыла перед ней двери. Затянув туже пояс на тощем животе, Астрахань вместе с армией заметалась в тифозном бреду на двадцати тысячах лазаретных койках. И на этих же койках, чуть пересилив тиф, Астрахань вместе с армией стала умирать от соленого селедочного супа. Лазареты уже не требовали медикаментов, ибо что медикаменты без хлеба? Хлеб… Хлеб… Без него не отстоять город от деникинцев, без него не поднять на ноги армию, начавшую выбредать из солончаков.
Так прожили тихий восемнадцатый год.
Последний декабрьский денек его был смят на исходе свирепым бураном. С лютой улыбкой входил в город гибельный год девятнадцатый.