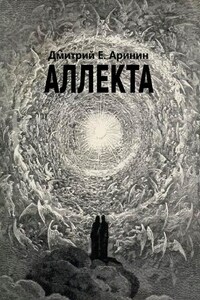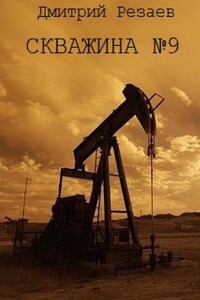Моему деду Джону Борду посвящается
К моему возвращению в школе уже совсем тихо. Когда я где-нибудь забываю вещи, мама называет меня безголовой тюхой, но никогда не объясняет, что это значит, – у нее вечно нет времени. Выходит, я снова оказался безголовой тюхой. Я понял это, как только заглянул в портфель по пути домой, – ну конечно, оставил тетрадку в кабинете математики. А в тетрадке – домашнее задание. Очень не хочется подводить мистера Джеффериса, вот почему я снова здесь. Миную площадку перед школой, проскальзываю через парадный вход. С наступлением темноты, когда все ушли, в школе страшновато, даже мурашки бегут по спине. Днем здесь полно народу, шум и гам, но сейчас в пустых коридорах тихо, и мои шаги звучат так, словно топает стадо слонов, это все из-за эха, которое скачет от стены к стене, от потолка к полу. Сейчас здесь никого нет, только человек в зеленом комбинезоне орудует странной машиной для мытья полов. Видок у него еще тот, – кажется, несчастней нет человека на свете. Папа говорит, если я не буду хорошо учиться, меня ждет такая же участь. Мне жалко этого человечка, но я тут же спохватываюсь, ведь жалеть людей нехорошо, жалость унижает.
Я прибавляю шаг, подхожу к кабинету математики. Дверь полуоткрыта. Мама всегда учила меня быть деликатным, поэтому я на всякий случай стучу. Открываясь, дверь пищит тоненьким, как у мышки, голоском. Его я вижу не сразу. Наткнувшись на груды разбросанных по полу бумаг и учебников, дверь застревает. Одну тетрадь я узнаю и, нагнувшись, поднимаю. Моя тетрадочка. Мистер Джефферис их у нас собрал в конце урока.
Тут до меня доходит, что в классе творится что-то недоброе. Я поднимаю взгляд и вижу мистера Джеффериса, учителя математики, моего учителя математики. Моего друга. Он висит посередине кабинета на ремне, стягивающем шею. Неестественно-бледный, огромные глаза выпучены, лицо похоже на карикатуру.
Но нет, это не карикатура. Он настоящий. Хотя далеко не сразу до меня доходит, что́ висит передо мной, не сразу удается понять: это не чья-нибудь отвратительная шутка.
Я гляжу и гляжу, а он все висит.
Мистер Джефферис. Мертвый.
И тут я начинаю орать благим матом.
Двадцать пять лет спустя…
Резкий, пульсирующий звук, казалось, поселился в голове и ввинчивался в мозг. Но стоило только на нем сосредоточиться, звук разделился, часть его куда-то уплыла и превратилась в звон. Одна часть – в голове, другая – где-то там, в другом месте. В общем, не здесь.
Дзынь, дзынь, дзынь.
Дзынь, дзынь, дзынь.
Звон был настоящий, и звенело совсем рядом.
Открыть глаза. Все вокруг плывет, темнота. Что происходит? Слышно чье-то тяжелое дыхание – понадобилась долгая секунда, чтобы понять: дышит он сам. Все чувства мерцают, как лампы в больничном коридоре. А потом – да-да, теперь он ощущает, как вздымается и опускается грудь, ощущает поток воздуха, рвущийся сквозь ноздри. И воздуха не хватает. Он попытался вдохнуть глубже и понял, что во рту у него совершенно сухо, – язык ворочается словно в темнице, стены которой оклеены наждачной бумагой.
Тишина… Впрочем, нет, где-то рядом все еще звенит: дзынь, дзынь, дзынь. Он успел привыкнуть к этому звону. Телефон. Попробовал пошевелить руками, но не смог. Обе руки где-то над головой, задраны вверх и тихонько дрожат, а в ладонях покалывает. Запястья схвачены чем-то твердым и прохладным. Металл? Да, похоже на то. Вокруг запястий железные обручи… наручники? Он попытался пошевелить онемевшими руками, чтобы понять, к чему прикован. Вертикальная перекладина у него за спиной. И он прикован к ней наручниками?