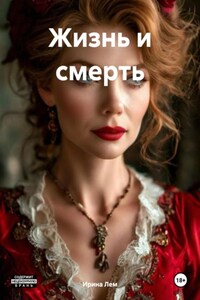Я вскочил с постели и схватил будильник. В ночной темени пытаясь рассмотреть стрелки часов, я прислушивался, тикает ли механизм. Спросонья, нет, скорее, с забытья я тщетно пытался понять, почему же он не звонит, ведь, кажется, я уже проспал. На мерно отсчитывающем краткость ночи циферблате старого будильника значилось три часа сорок минут, и можно было ещё смотреть сны, но они не шли, как и часовая стрелка.
Вчера отец сказал, что возьмёт меня на охоту, и весь вечер я складывал свои нехитрые вещи: сапоги, портянки, которые вчера учился наматывать, свитер… А потом всё никак не мог уснуть, накручивая километры, вращаясь веретеном в постели, истончая простыню.
Через несколько лет я вскакивал в 4 утра на рыбалку в одиночку, и как ни старался тише, всё же домашние просыпались, провожая меня сочувственным вздохом из тёплой постели. Потом, наверное, привыкли.
Вот только я не могу привыкнуть, и мне по-прежнему, спустя десятки лет, не спится перед открытием охоты или перед долгожданной рыбалкой. Не успею я закрыть глаза, как разбегающиеся в разные стороны зайцы, неожиданно взлетающие из-под ног куропатки, выпрыгивающие свечкой кижучи срывают мой пульс в спринтерский забег, и ночь уходит в его урезонивании и ожидании, когда же зазвонит тот самый будильник из детства, который разрешает счастье.
Помните, как в детстве, когда опускалась ночь, а взрослых поблизости не было, мы рассказывали друг другу страшные сказки? Мы пододвигались друг к другу поближе, находя защиту в касании плеч, вздрагивали от каждого постороннего звука и жутко боялись идти домой в темноте. В каждом тёмном углу нас подстерегал страх, в скрипе двери мы слышали вопли кошмара, а в промельке тени ночной птицы – ужас. И хотелось броситься бежать с визгом отчаяния, но ноги были ватными и непослушными…
«…Прошло уже лет сорок после детства…» Но мы ничуть не изменились. И когда взрослых нет рядом, рваные облака то и дело закрывают свет луны, ночные шорохи за спиной сковывают страхом тело до невозможности обернуться, когда пляшущий костёр кажется единственным спасением в жуткой темени камчатской ночи, редкий собеседник не спросит:
– А вы встречались с медведем вблизи? – пододвигаясь к огню поближе.
– Да, было дело… – после шекспировской паузы протяну я и, подбросив в костёр сухую ветку, провожу взглядом искорку, взлетевшую над пламенем и погасшую, как прожитый день.
В тот вечер краски заката уже поблёкли, а мы с егерем Андрюхой, ровесником и коллегой, ещё не дошли до зимовья. После почти 12-часового перехода по духоте летнего леса, где воздух недвижим и тягуч от испарений влажной земли и сока трав, когда щиплет уголки губ от соли, и ты слышишь, вытирая пот с лица, как хрустят рёбра комаров под твоей ладонью, мы, наконец, вышли на луг, куда сумерки принесли прохладу лёгкого бриза. До заветного ночлега оставалось всего полкилометра по пробитой сквозь высокое разнотравье тропинке, когда послышался топот копыт. Я, в немом вопросе вздёрнув бровь, обернулся.
– Они что, тут уже на лошадях разъезжают? – с полным недоумением в голосе, спросил Андрюха, имея в виду обнаглевших браконьеров, и поправил перекинутый, как и у меня, через плечи карабин, на котором нёс уставшие руки.
Отсутствие работы гнало народ в тайгу, и там каждый зарабатывал как мог, как умел, и зачастую, те кто не обременён совестью – браконьерством. В ответ на риторический вопрос егеря топот приближался, нарастая, и мы привстали на цыпочки, пытаясь разглядеть всадника поверх колышущихся трав. Но вдруг, разметая в разные стороны волны кипрея, из-за изгиба тропинки на нас вылетел несущийся галопом медведь. Его кожаные тапочки и танкоподобные размеры на плотной дорожке порождали на бегу знакомый нам лошадиный топот. Он пронёсся мимо, не замечая нас, со скоростью арабского скакуна, обдав запахом мокрой псины, слюнями, и, протерев свой правый бок о наши выцветшие «афганки», скрылся в сумерках. С круглыми от изумления глазами, отвисшей челюстью и кепочкой, приподнятой волосами, я опять повернулся к другу.