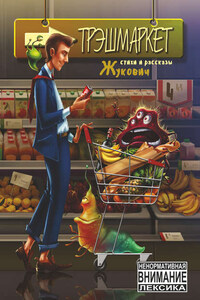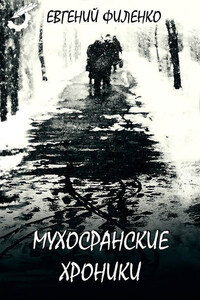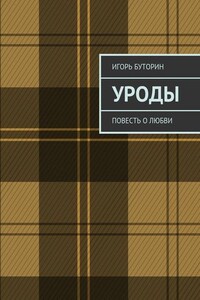
Уроды. Повесть о любви
Повесть «Уроды» о любви, какой бы странной она ни казалась. В конце концов, гораздо важней, что она вообще получилась, а уж какая – не нам судить.
| Жанр: | Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Уроды. Повесть о любви
Книга заблокирована.
Вам будет интересно