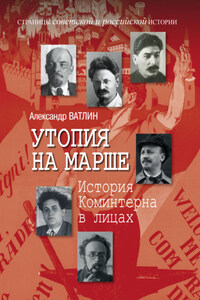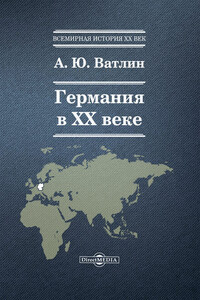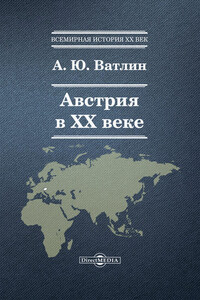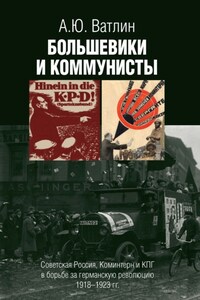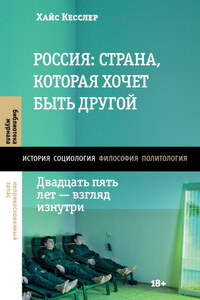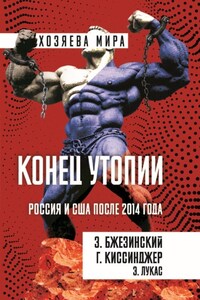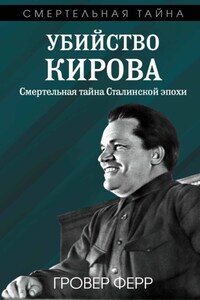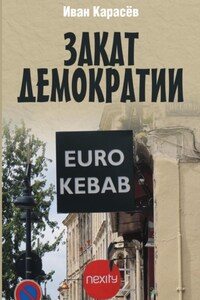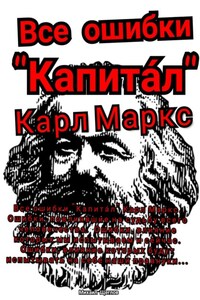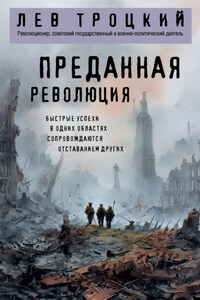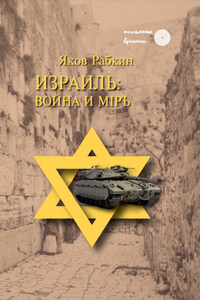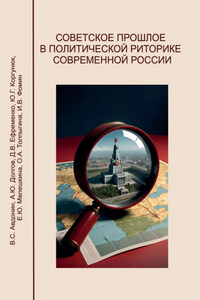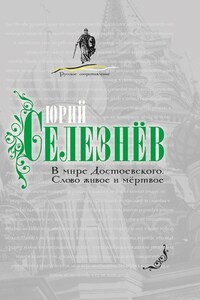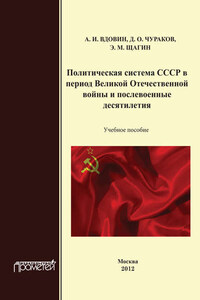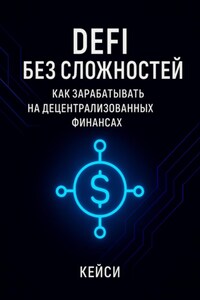© Ватлин А.Ю., 2023
© Фонд поддержки социальных исследований, 2023
© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2023
© Политическая энциклопедия, 2023
Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А.К. Сорокин
* * *
XX век вошел в историю как «эпоха крайностей»[1], когда вовлеченные в политику массы, ведомые харизматическими вождями, лихорадочно искали пути к светлому будущему, которое могло бы перечеркнуть омерзительное настоящее. Согласно радикальным идеологиям освобождения, такие пути могли открыться лишь после того, как будут разрушены все основы привычного мира, его общественно-политические и морально-психологические устои.
Одним из самых ярких проявлений подобного нетерпения стала советская эпоха в истории России, соединившая в себе крайности массовой мобилизации и жестокой диктатуры, невиданных темпов экономического роста и колоссальных жертв, лежавших в их основе. Идейным стержнем всех семидесяти лет советской власти выступала теория исторического материализма, согласно которой люди, накапливая опыт и совершенствуя орудия труда, перебирались со ступеньки на ступеньку общественно-экономических формаций, каждая из которых имела свой неповторимый облик.
Немецкий философ Карл Маркс, разработавший эту теорию в середине XIX века, был уверен в том, что время, в которое он жил, являло собой начало конца капиталистического способа производства, обострившего до крайности общественное неравенство. Простые люди видели, что их труд оборачивается невиданной роскошью, но не для них самих, а для кучки богачей, которые заправляли и парламентскими фракциями, и политическими партиями. Сторонники марксизма утверждали, что экономика частного предпринимательства и буржуазное государство стали тормозом социального прогресса, порождая не только безысходность и нищету социальных низов, но и войны, националистическую гордыню и закабаление целых народов. Однако вместе с мощью передовых европейских держав вырос и могильщик капитализма – пролетариат, т. е. люди наемного труда, которым суждено опрокинуть ненавистную систему.
Первой пробой сил стали европейские революции середины ХIХ века, в которых «синеблузые» выступили со своими собственными требованиями и лозунгами. Образ женщины с красным знаменем в руках, ведущей парижан на баррикады, стал символом новой эпохи. То, что раньше казалось досужей утопией, вроде «государства Солнца», превратилось в программу левых радикалов, требовавших немедленной отмены частной собственности и полного искоренения «буржуев», а значит – считавших себя коммунистами.
Перетолковывая Евангелие, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса бросал вызов уходившей эпохе: «Пролетариям нечего… терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»[2]. Этот мир, в котором не будет насилия и бедности, алчных торговцев и кровожадных эксплуататоров, весьма напоминал обыденные представления о рае, перенося его с небес на землю. Но ворота в этот мир не открывались сами по себе – рабочим всех стран следовало совместными усилиями свергнуть господство капиталистов, установить собственную диктатуру и взяться за строительство высшей из возможных ступеней человеческого прогресса, которая называлась коммунизмом.
Примерно так растолковывали теорию Маркса ее сторонники, выступая в роли апостолов одной из первых политических религий. Рабочие кружки в разных европейских странах, напоминавшие общины первых христиан, росли и превращались в массовые пролетарские партии, которые открыто заявляли о том, что рано или поздно низвергнут основы буржуазного общества. Презрение его верхушки, запреты властей и полицейские репрессии не смогли остановить рост сторонников и влияния новой политической силы.