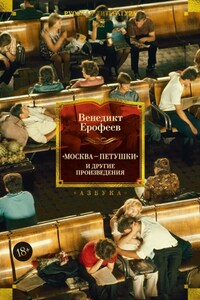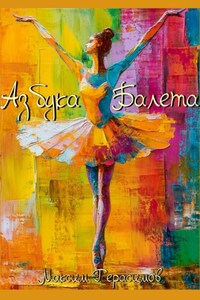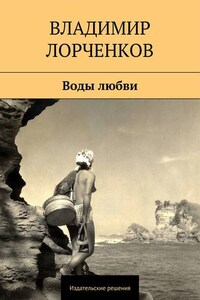Меня, наверное, зарезали какие-то негодяи. Должно быть, меня выпотрошили как рыбу. Это ближе – меня выпотрошили как лупоглазого раздутого карпа с обвисшей дыркой вместо рта. Но эти суки, те, кто меня потрошили – им были не интересны мои белесые влажные мышцы. Подонки хотели пожевать мои потроха.
Матерь божья, кто-то жует мои потроха. Напрягу слух, и услышу, как они срипят и хлюпают на зубах моего насильника. Кроме того, хоть меня и не сушили, но с размаху пизданули головой о край табуретки.
Всё же, глаза открыть придётся. У них или него ужасно гнусные, довольные рожи и моя рыбья сукровица на жирных губах, но я же не трус. Я не трус. Я не трус. Я страшен. Я труш… Я не тру… Я в трусах?
Рыбы трусов нихуя не носят. Потроха в самом деле ужасно болят, а голова пришита к полу стальным огромным гвоздём – через висок, потом сквозь какую-то жижу в голове – и к полу.
Кажется, я ищу не там. Надо посмотреть во рту. Оттуда ужасно несет пердежом, и кажется, мой язык кто-то сосал. Но это точно была не какая-нибудь девуш-… Ужасно, как ужасно сейчас думать о любви! Я упился вчера на ходу, вдали от добра и сострадания, я квасил и шел, вдали от живых людей, чтобы они никогда не узнали, чем я воняю.
Значит, это последствия интоксикации.
Моя первая попытка подняться заставила меня пожалеть. Я сумел нащупать что-то рукой, кафель, кажется. Я думаю, это не унитаз. Придётся открыть глаза.
Веки так предательски легко открываются – я помню, что несколько… единиц времени назад я уже просыпался, но веки были налиты свинцом, и разрешили мне поспать. Теперь у них кончилась смена – «Вставай, братишка, мы свое отработали, хватит с нас лямку тянуть.»
Я даже не моргнул, я скорее пожевал глазами. Теперь, до меня дошло – вокруг темнота и какие-то нелепые предметы, значит не опасно. Нелепица безопасна. Я открыл глаза уже с намереньем. Перекидывал зрачки из уголка в уголок пару мгновений, и темнота стала прозрачной. Я лежу в ванной. И, наверное, могу встать.
Да, конечно я могу встать. Мне, вероятно, даже не будет больно, и, скорее всего меня даже не стошнит. Но страшно до чертиков – стоит мне встать, и придётся покинуть темную утробу уборной. Я лежал в ванной, и судя по всему, ещё недавно она была наполнена, или по-крайней мере в неё лили воду. Сейчас вокруг меня плескалась какая-то жидкость, как околоплодные воды вокруг слабого, продрогающего детёныша, которого против его воли выбросили из небытия. Я не хотел вставать. «Встать» значило – «родиться».
Теперь до меня наконец дошло, почему младенцы так вопят, когда появляются на свет. Думаю, рождаться гораздо страшнее, чем умирать. Человек может решить, когда умрет, но не он решает, когда ему родиться.
Моя ладонь со шлепком упала на бортик ванной. Заскользила. Я вроде помню как это, напрягать мышцы – странные, сухие канаты под кожей начинают двигаться, тужиться, и ты делаешь движение.
Тяги моих канатов хватило только на то, чтобы подтянуться к бортику – со скрипом, мой подбородок протёр стенку ванны. Ещё одно усилие – электричество проходит в плече, его задница вздувается, рука ,чуть не ломаясь под моей тяжестью становиться прямой.
Последнее усилие, совсем небольшое. Я толкаю тело вперед, немножко, чтобы второй руке было удобнее упереться в стену. Вторая рука желает мне всего хорошего. Я вываливаюсь из ванны, мешок кишков, рвоты и отчаяния.
Кафель со всей дури уёб меня в нижнюю челюсть. Был бы я слабее, такой апперкот убил меня. Зубы, казалось, убежали так далеко в череп, что немного пощекотали глазницы. Не все, тем не менее – один, мой левый клык, мой добрый Левый Клык не снёс удара, треснул и теперь больно кровоточил.