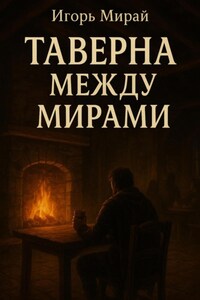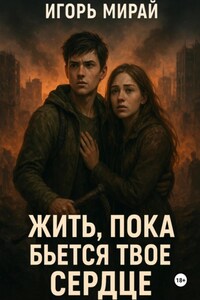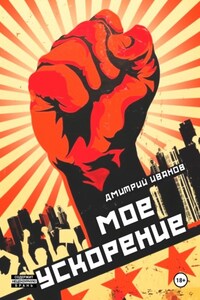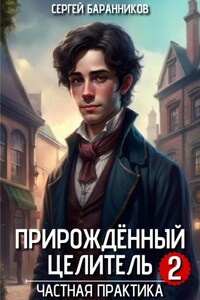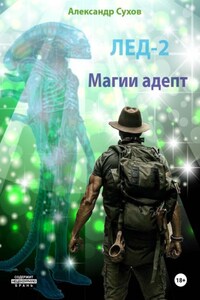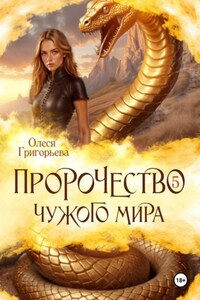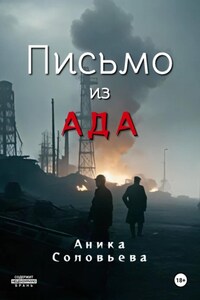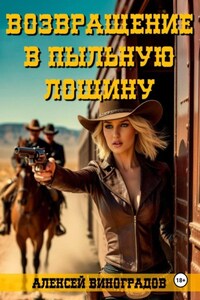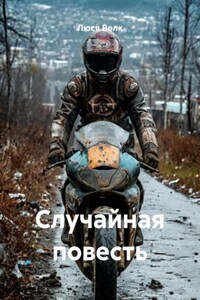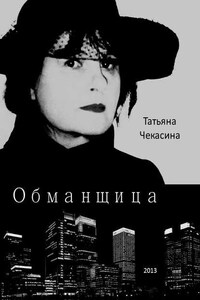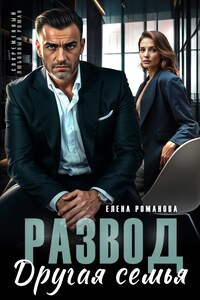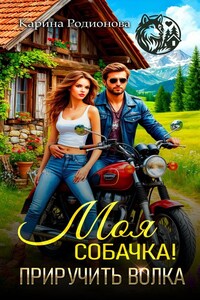Стойка тянулась дугой, как берег тихого залива, отполированная до матовой гладкости ладонями, годами, разговорами. Древесина хранила в себе сотни оттенков – от тёплого мёда до почти чёрного, как уголь, – и в этих перепадах цвета Мирнису мерещились то горные гряды, то русла высохших рек. На краю стойки стояла широкая чаша с веточкой розмарина, и влажный, терпкий запах травы растворял жар пустыни, всё ещё дрожащий под кожей.
Он подошёл ближе. Неуверенность в шагах дала себя знать только лёгким покачиванием – колени распоминали забытое чувство устойчивости. Внутри было светло и мягко: свет не резал глаза, а ложился, как шерстяной плед, – от ламп в латунных кольцах, от огня в камине, от витых свечей в стеклянных подсвечниках. Своды не давили. Воздух дышал – хлебом, дымом, тёплым маслом, свежескошенными травами, едва заметной хвойной смолой.
– Добро пожаловать, – сказал тот, кто стоял за стойкой.
Он не поднял голоса: слова расправились сами, как крылья, и легли на уши без усилия. Хозяин был невысокий, сухой, с едва заметной проседью в висках и глазами цвета старой меди. В этих глазах не было усталости – только внимание, как у мастера, который слышит, как поёт дерево под стамеской. Уголки губ хранили улыбку, не настойчивую, но неизменную, будто он улыбался не тебе, а самой способности мира складываться в смысл.
Мирнис открыл рот, но голос, сорвавшийся в пустыне, ещё не успел вернуться. Хозяин этого как будто и не ждал.
– Ты долго шёл, – сказал он просто. – Садись.
Ладонь хозяина легла на стойку. Движение – короткое, привычное, почти незаметное – и перед Мирнисом возникла кружка. Ни звона, ни скрипа – будто посуда не появилась, а всплыла из самой древесины. На шершавом ободке блеснула влага. От кружки шёл пар – не обжигающий, а зовущий. Запах ударил в сердце, как мягкий колокол: тмин, подкопчённый ячмень, щепоть соли и что-то ещё – сладкое, осторожное, как полузабытая колыбельная.
Он знал этот запах. Слишком хорошо.
– Как?.. – хрипло спросил Мирнис. Голос прозвучал не его, чужой, охрипший, но Хозяин кивнул, будто понял и это.
– Здесь у каждого – своя чаша, – ответил он. – Та, что помнит тебя лучше, чем ты сам.
Мирнис обхватил кружку двумя руками. Тепло протекло в пальцы, дальше в кровь, в плечи, в затылок – терпеливое, уверенное. Он сделал короткий глоток. Вкус был точным до боли: степной настой его народа – тёплый, чуть солоноватый, с горчинкой и едва заметной медовой нотой; напиток, которым мать встречала вернувшихся с дороги. На мгновение пустыня в нём зашевелилась, шурша песком, и ушла, как отлив.
– Ты… откуда знаешь? – спросил он, не решаясь оторвать пальцы от кружки.
– Я ничего не знаю, – мягко сказал Хозяин. – Знает таверна.
Он говорил просто, без загадок, и от этого загадки становились острее. Мирнис огляделся. Стойка, казалось, чуть меняла рисунок под лампами: кольца годовых срезов то расходились шире, то сходились, как если бы дерево дышало. На стене висели часы без стрелок. В углу, где каменная арка открывалась в ещё один зал, воздух дрожал, как над горячей глиной, и на миг показалось, что там – не зал, а берег моря, низкая волна, лениво лижущая песок.
– Сколько… времени? – выдохнул он, сам не понимая зачем.
– Здесь время – как вода в кувшине, – ответил Хозяин. – Сколько нальёшь – столько и будет. У кого-то кувшин треснул, у кого-то переполнен. Таверна не торопит.
Он сказал это так, как будто повторял знакомую пословицу. В его голосе не было ни тени важности, и оттого каждое слово ложилось на место. Мирнис сделал ещё один глоток. На языке проступили отзвуки давних дорог: звенящие от холода ночи, потяжелевшие на ветру палатки, конский пот, нехитрый смех у костра. Он втянул воздух глубже. Лёгкие, впервые за много дней, не скрипнули от песка.