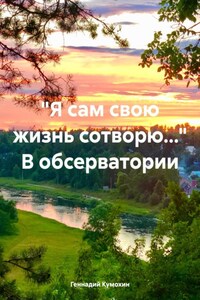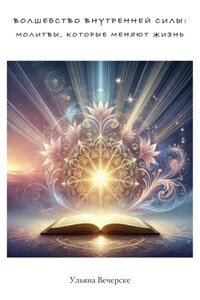Ночь капает на землю. Соловьиною песней, как дождём. Звонко бьётся она о тишину, вызывая в той трепет, что отдаётся по округе, взывая к добру, которое щемит душу, не ущемляя её свободы: ни быть собой, ни просто – быть.
Пускай то даётся нелегко, и скользят наяву сны по бледному льду, кой роняет на землю круглое об эту пору зеркало луны, а и обратятся они когда явью, по велению сердца, либо навечно останутся мечтой, – то не нам ведомо. Из того, что наверное для нас, и подвластно, и по чину с разумением – благодарность с огнём радости, что должны хранить, оберегая в себе от ветров невзгод и страданий, в тщете справится с коими рвётся сердце, а душа… В обширной авоське закидного её невода – всё нажитое и пережитое тож. И с каждым шагом по берегу жизни, всё меньше ненужного там, всего меньше, как меньше её самой.
Сверчком щекочет небо тишина, а по наковальне рассвета, слышно едва, со звоном стучит ночь.
Скрипя рессорами, её коляска двигается неспешно к утру, так и мы едем по жизни, развалясь, привыкая к мельканию дней, словно бы к виду за окошком. С запоздалым, безучастным сожалением рассматриваем пеших, сгибающихся под тяжестью поклажи, большая часть из которой предназначалась нам.
Так не надо ни с чего грёз и чаяний напрасных, – всем достанет всего, настигнет в известный час. Дайте только срок…
Исчерпав себя, умолк соловей. Не насовсем, не навсегда. Сперва он дождётся появления солнца, и предоставив ему, освободившемуся от тесноты горизонта, выказать всё, что должно, запоёт уже вновь. Ибо – какое утро без оклика соловья? Какая без вышитой его песней ночь…
Будучи ребёнком, я присматривался к родителям, и попеременно не любил: то мать, то отца. Они определённо казались мне недостойны друг друга. Но в разное время, я предпочитал одного другому, отчего мнение моё менялось, сообразно настроению, моменту и возрасту.
С годами сие глупое, напрасное занятие слетело с меня, как чешуя со ствола сосны. Свершившийся случай долгого их супружества и очевидное довольство от того, что имеются друг у друга столь безотрывно, сколь и конечно, примирили меня с их выбором, а уход отца и вовсе поставил точку.
Погрязнув в горе, я не помнил себя, лишь несколько утешили воспоминания о том, как металось сердце промеж родными. Не сразу, но я постиг, наконец, разницу в отношении родычей и близких, уразумел прелесть превращения близких в родных и стал свидетелем происходящего часто отчуждения друг от друга кровных родственников, вследствие невежества, коим страдают многие, вне гражданского состояния, сословия или происхождения.
Даже несмотря на смущавшие меня несколько взаимоотношения родителей, столь отличные от принятых вообще, я имел случай удостовериться в том, что даже с уходом из жизни одного из них, они вполне не завершены. Из-за чего я вновь остался недоволен исходом дела. Нет, я не то, чтобы был огорчён бытностью матери, – ни Боже мой!– но истончённый страданием, я стал лучше понимать её, ибо мне, так же, как ей, очень не хватало отца.
Оказалось, что они мне нужны оба, в любой ипостаси, в том самом неприятии и в соперничестве, что царило в душе. Воздевая лицо к небесам, дабы вернуть слёзы туда, откуда они проистекали бесконечным, беззвучным ручьём, я наблюдал облака. По-прежнему безмятежные, нетронутые, совершенные в своих очертаниях, живые… они громоздились, не будучи помехой никому.
…Тени облаков расползались кляксами по земле, придавая всему серый, унылый, даже несколько мрачный вид. Невзирая на собственною, присущую им чистоту, облака заслоняли солнце, отчего под их сенью гнездились сумрак и приятная в зной прохлада. В другой час от того делалось и тоскливо, и зябко, и зыбко до дрожи. Посему желалось выйти поскорее на свет, зажмуриться навстречу солнцу, и шагнуть после почти сослепу в траву, едва не наступив на ужа.