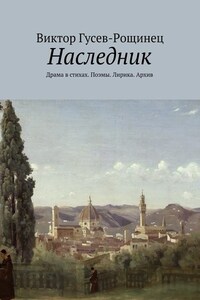Тянется пятидесятый псалом,
еле мерцает лампада.
Перекрестились под острым углом
два Александровских сада.
Кружатся призраки двух городов,
кружатся в мыслях и датах
вальс петербургских двадцатых годов,
вальс москворецких тридцатых.
Ветер колеблет листву и траву,
и проступает ложбинка,
та, по которой неспешно в Неву
перетекает Неглинка.
Тени и света немая игра,
приоткрывается взору
то, как по Яузе ботик Петра
переплывает в Ижору.
Это два вечных небесных ковша,
это земная туманность,
это не то, чего просит душа,
это бессмертная данность.
Можно стремиться вперед или вспять,
можно застынуть угрюмо,
можно столицы местами менять —
не изменяется сумма.
Вот и рассвет, просыпаться невмочь,
и наблюдаешь воочью,
как завершилась московская ночь
питерской белою ночью.
Память неверная, стершийся след,
временность и запоздалость —
то, чего не было, то, чего нет,
что между строчек осталось.
Белая ночь обошла пустыри,
небо курится нагое.
Две повстречавшихся в небе зари
движутся на Бологое.
Нет ни слова о них ни в каких фаблио:
не поверит в них ум ни один недалёкий:
всей-то жизни полдня им, несчастным и.о.,
им, доверчивым врио родной Самотёки.
Впрочем, если б не дождь, никому никогда
не слыхать бы о них даже сплетен на рынке,
этих жутких быличек, о том, как вода
превращается в море над руслом Неглинки.
Поначалу ручей, чуть попозже – река,
этот ливень дорогу спешит обезбрежить.
В мутной пене плывет что-то вроде снетка,
что-то вроде ерша – водопольная нежить.
Хлещет буря, куски облаков полоща,
пляшет с молнией гром, как с сестрицею братец,
не-голавль догоняет совсем-не-леща,
рассекая косяк не-совсем-каракатиц.
Но плывет мелюзга, убедись да позырь:
упражняется пена в пустом пилотаже,
пробежал три вершка, да и лопнул пузырь,
и со всеми другими история та же.
Но и той, уцелевшей в пути голытьбе,
что умчалась на юг, весь бульвар измазюкав,
никуда не удастся нырнуть на Трубе —
там шипит и кипит водовертье у люков.
И нырнувшим приходится быть начеку,
у хозяев Неглинки не празднуют труса:
в темноте предстает чужаку-новичку
низовое болото, трясина, чаруса.
Под землей начинается путь в антимир:
здесь колодезник в черном безумье хохочет,
здесь балчужник для змей понастроил квартир,
здесь бакалденник зубы щербатые точит.
Только черту едва ли опасен шайтан,
никогда не воюет изнанка с исподом,
все растут пузыри, все вбирают метан,
все грозят на свиданку рвануть с кислородом.
Убирайся с дороги, соплю не топырь,
уползи за Можай от сливного колодца:
по Неглинке плывет исполинский пузырь,
и, похоже, вот-вот под Манежем взорвется.
Только пыжится это чудовище зря,
в небесах на восток уползли диплодоки,
оборвалась короткая жизнь пузыря,
и закончился дождь, и сухи водостоки.
…Водяные о чем-то своем в черневе,
успокоясь немного, бурчат неохоче,