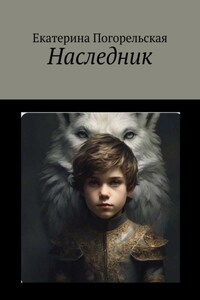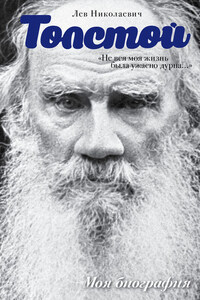Вдыхая тень зверя
Весна 1918 года. Новый мир недобр к героям былых времён, но вдруг таланты старорежимных сыщиков оказываются востребованы молодой большевицкой республикой. И теперь в безумном революционном водовороте Рудневу и его друзьям предстоит найти пропавшую реликвию, от которой зависят судьбы народов.
| Жанры: | Книги о приключениях, Классические детективы, Исторические детективы |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2024 |
Читать онлайн Вдыхая тень зверя
Книга заблокирована.
Вам будет интересно