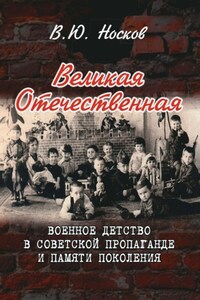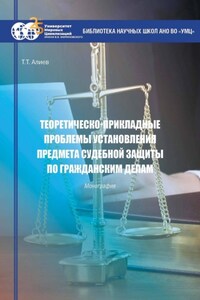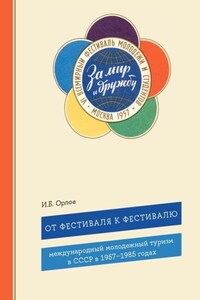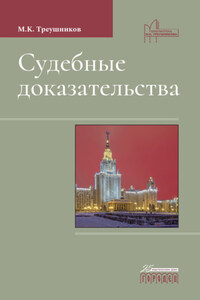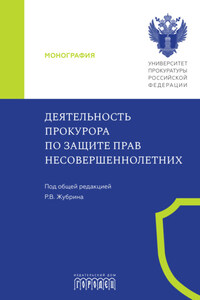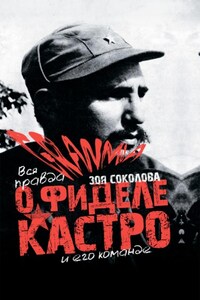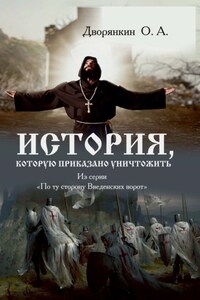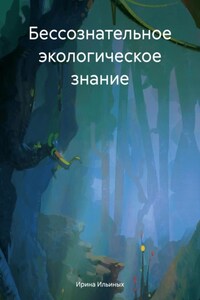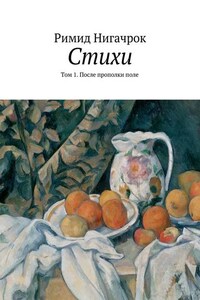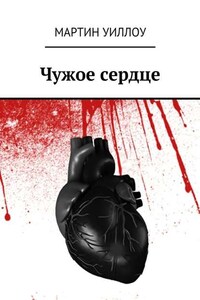Великая Отечественная война явилась одним из величайших событий, определивших ход мировой истории и судьбы всех ее участников – от мала до велика. Тотальная война втянула в себя сражающиеся армии и гражданское население, опрокинув привычное деление на фронт и тыл, перечеркнув прежние представления об обычаях и этосе войны. Речь шла о жизни и смерти миллионов людей, о будущем цивилизации. История войны – неисчерпаемая тема, ее изучение – долг историков перед теми, кто выстоял и победил, ковал победу, растил хлеб и сохранял культуру. Великий русский писатель Андрей Платонов, сам будучи фронтовым корреспондентом, высказал в своей, лишь недавно опубликованной, записной книжке следующую мысль: «В нашей войне знаменательно то, что даже человек слабый и ничтожный, даже ребенок, еще не осмысливший мир, обречен на подвиг, на честь и величие»[1].
Для детей, как и для фронтовиков, и тружеников тыла, опыт войны стал ключевым в жизни. Он определил очень многое в мировоззрении советских людей, для которых память о войне и великой Победе приобрела поистине священное значение. Вместе с тем, для детского восприятия это был и болезненный, травматический опыт страдания, потерь и лишений. В наши дни представители именно этого поколения являются носителями живой памяти о Великой Отечественной войне, их свидетельства вызывают неослабевающий интерес и оказывают значительное влияние на молодежь.
Полнота осмысления военного детства предполагает детальный анализ его отражения в сознании современников, воссоздание бытовавшего в 1941–1945 гг. (синхронного) образа на основных уровнях советского общественного сознания – обыденном и официально-идеологическом.
Детство – период, в рамках которого происходит становление мировоззрения и личности ребенка, от этого процесса неотделимы образы реальности в сознании детей, переживших войну. Ребенок всегда воспринимается как цель жизненных усилий, воплощение счастья, будущего, поэтому в пропагандистском арсенале понятия материнства и детства выступают важными показателями эффективности социальной политики, воплощением социальных идеалов.
Важным для данной работы является определение понятия «военное детство». Оно неразрывно связано с феноменом военного поколения – общности современников, сформировавшихся в определенных исторических условиях, под влиянием значимых исторических событий, независимо от их хронологического возраста, объединенных общим восприятием пережитого исторического прошлого[2]. Термин «дети войны» возникает уже на завершающем этапе Второй мировой войны, закрепляется в историографии в конце 1980-х гг., а в 1990–2000-е гг., получает широкое распространение на постсоветском пространстве и в политических практиках. Это объясняется, прежде всего, демографическими факторами, изменившими структуру фронтового поколения, в котором доминировать стали люди, встретившие войну в несовершеннолетнем возрасте и не имевшие особого законодательно закрепленного социального статуса. Свою роль сыграло и то, что в условиях развития демократических институтов «дети войны» стали важной целевой электоральной группой, что усилило политические дискуссии об их правовом статусе. Так например, в рамках Закона Украины «О социальной защите детей войны» от 18 ноября 2004 г. данный статус получали лица – граждане Украины, которым на момент завершения Второй мировой войны 2 сентября 1945 г. не исполнилось 18 лет[3]. На федеральном уровне в Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует как социальный статус, так и определение категории «дети войны», однако в ряде регионов граждане, родившиеся в период с 22.06.1928 г. по 02.09.1945 г., законодательно определяются как «дети войны».