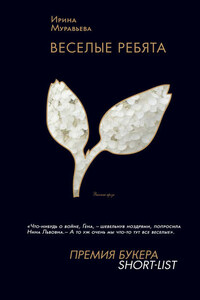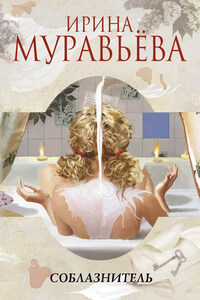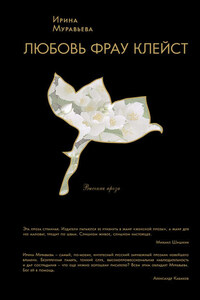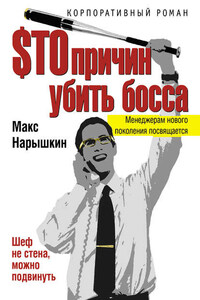Раздевалка девочек была отделена от раздевалки мальчиков тонкой перегородкой, через которую было слышно все, включая дыхание и шелест чулок. В закутке, общем для обеих раздевалок, стоял запах острого пота, внутри которого плавало множество побочных запахов, начиная от кислого – резины – и кончая горьковатым запахом польских духов «Черная кошка». Сильнее всего пахло от Юли Фейгензон. От ее влажной, в мягких глубоких складках полноты, на которой еле застегивалась старая школьная форма. Мы сидели на одной парте, и каждое движение ее смуглой руки с короткими пальцами, каждое ленивое почесывание ладонью заросшего темным пушком виска или машинальное погружение карандаша в глубину каштановых, с золотом, слипшихся кудрей приводило к тому, что мокрая, в белесых разводах подмышка, высунувшись из складок передника, ударяла по моим ноздрям дикой силы сладковатым неподвижным запахом, который, как мне казалось, и был душой Фейгензон, выражал собою всю ее – девочку из бедной семьи, молчаливую, рано созревшую, которая уже в девять лет носила огромный, серого цвета лифчик, плохо училась и смотрела на мальчиков смеющимися темными глазами в густых ресницах.
Переодеваясь для урока физкультуры, я старалась выбрать лавку подальше от Фейгензон, которая, кстати сказать, на физкультуру ходила редко и каждый свой пропуск объясняла учителю Николаю Ивановичу – бешеному фронтовику – тем, что у нее «это дело». А Николай Иваныч раздувал волосатые ноздри, всем своим нутром переживая то, что приходится выслушивать, и, упершись левым зрачком в ее распираемый мощной грудью передник, махал рукой с плоскими ногтями потомственного алкоголика:
– Ладно!
Она так просто, так доверчиво сообщала, что не сможет ни перепрыгнуть через козла, ни сделать березку, будто Николай Иваныч был школьной медсестрой, а не чужим человеком, мужчиной, чуть было не сломавшим однажды руку Сергею Чугрову за то, что тот, долговязый и неловкий, карабкаясь по шведской стенке, поскользнулся и неожиданно съехал вниз, прямо на шею растерявшегося от неожиданности, но тут же налившегося сизой кровью физкультурника, который изо всей силы схватил Чугрова за руку и так резко рванул ее вниз, что хрустнули все суставы. Наши мальчики обходили Фейгензон вниманием, она была слишком большой, потной и неподвижной, в то время как им до смерти хотелось вертлявых девчонок с тонкими талиями и темными сосками, которые проступали под майками во время все той же физкультуры, когда раскрасневшаяся одноклассница, сверкая глазами, неслась к кожаному, продранному с одного бока козлу, чтобы под одобрительные покрикивания ломких басков перескочить через него, если получится, а если нет, то упасть, будто ее сразила пуля, на блестящий от пота, продавленный мат, вспыхнув полоской кожи между задравшейся майкой и сатиновыми трусами.
В это утро они сидели на лавочке втроем: Фейгензон, Орлов и Чернецкая. Фейгензон было четырнадцать, потому что она поступила в школу немного позже, а Орлову и Чернецкой тринадцать. Кончался март, долгий, промозглый месяц, когда воздух в высоких, наполовину забеленных окнах актового зала наполняется торопливой надеждой непонятно на что, а снег на земле сжимается и темнеет, как стариковская кожа.
В отличие от тошнотворно пахнущей Фейгензон с ее постоянным посмеиванием и мокрым ртом, Чернецкая была аккуратно причесана, быстроглаза, надушена и без устали кокетничала со всеми лицами мужского пола, начиная со свирепого Николая Ивановича и кончая учителем истории Робертом Яковлевичем, высоким, с тремя скрюченными пальцами, торчащими из обтянутого кожей отростка, – вместо правой руки, и пустым рукавом, засунутым в карман пиджака, – вместо левой. Чернецкая кокетничала и с ним, и с Николаем Ивановичем, и с председателем совета дружины прыщавым Володей, и с милиционером, который руководил переходом через Смоленскую площадь, и с каждым из тех черноусых кубинцев, борцов за свободу и независимость, которые появились однажды в нашей школе на утреннике благодаря ее же, Чернецкой, матери, переводчице с испанского, работающей в Доме дружбы – небольшом, завитом, как улитка, старинном особняке, в котором, говорят, когда-то, еще в прошлом веке, умерла целая дворянская семья, отравившись конфетами.