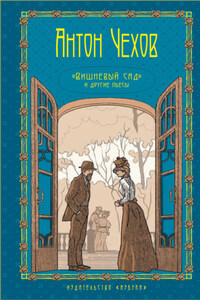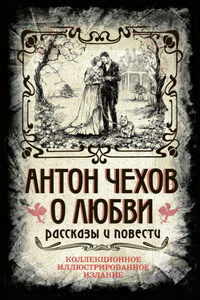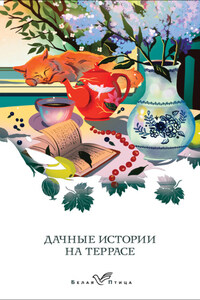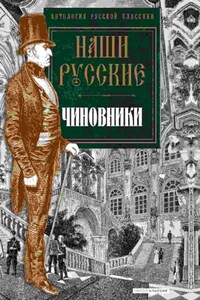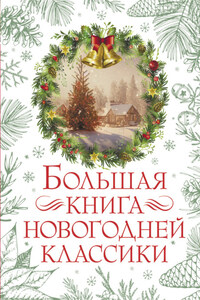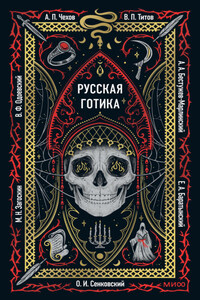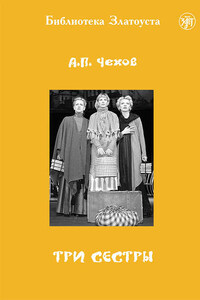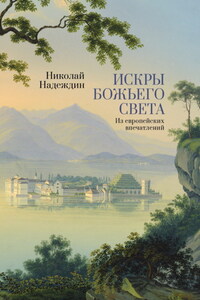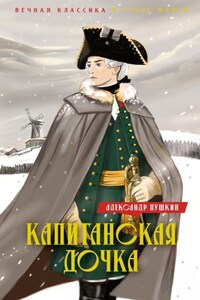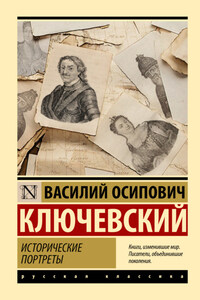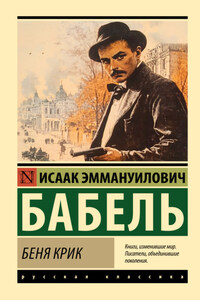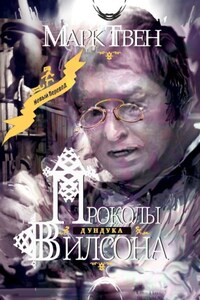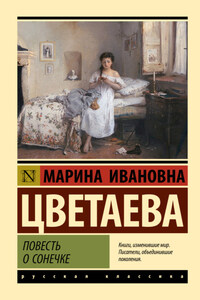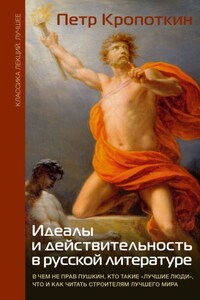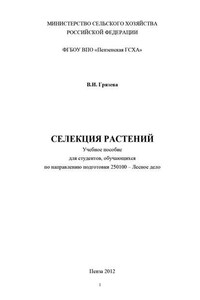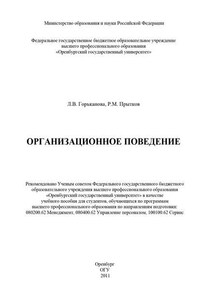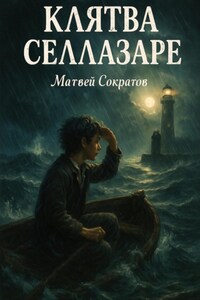Чехов-драматург известен много больше Чехова-прозаика. Бывает, в Москве, в Петербурге, в апрельской Ялте плачут сестры или продают вишневый сад несколько раз в неделю. На родине Шекспира его называют почетным англичанином. На Дальнем Востоке – настоящим японцем, конечно же, за цветущие вишни, так похожие на сакуру. По числу постановок, инсценировок, интерпретаций и экранизаций автор «Чайки», наверное, не уступает в ХХ веке автору «Гамлета».
С другой стороны, уже современники Чехова в восприятии его пьес разделились на два лагеря. Фанатические поклонники постановок Художественного театра, ставшего уже в начале века Домом Чехова (как Малый театр был Домом Островского), наталкивались на вежливое равнодушие или откровенную неприязнь часто очень близких и весьма расположенных к Чехову-прозаику людей.
«Чехов – несомненный талант, но пьесы его плохие. В них не решаются вопросы, нет содержания», – не раз повторял в беседах Лев Толстой[1]. Самому автору он немного подслащивал горькую пилюлю: «Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже»[2]. Все-таки несколько приятнее быть хуже Шекспира, а не какого-нибудь драмодела 1890-х годов.
И. Бунин, составлявший длинный список любимых чеховских рассказов, с удовольствием пересказывал толстовские суждения, потому что сам думал сходно. Чехов-прозаик и Чехов-драматург находились для него в разных измерениях: «Пьесы его далеко не лучшее из написанного им…»[3] Бунин считал, что славу чеховским пьесам принесла лишь их постановка в Художественном театре.
Драматургия – искусство особое. В старых поэтиках (от Аристотеля до Гегеля с Белинским) драма объявлялась вершиной словесного искусства. «Драматическая поэзия есть высшая ступень развития поэзии и венец искусства…»[4] В чеховском художественном мире эта идея подтверждается. Драма оказывается последней ступенькой жанровой лестницы, вершиной жанровой иерархии.
Чеховские повести, не говоря уже о рассказах, строятся, как правило, на линейной фабуле, связаны с развернутой характеристикой, с точкой зрения центрального персонажа (или персонажей-оппонентов). Проза Чехова практически не знает оборота «в это же самое время…» (ср. характерный толстовский прием: «В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез… с графом Безуховым сделался шестой удар»).
В драматургии же, напротив, даже при ограниченном круге персонажей (как в «Дяде Ване») обязательно присутствует многоплановость. Сюжетные линии сосуществуют – путаются, пересекаются, обрываются. Драма как бы вбирает в себя – и тематически, и структурно – несколько «сюжетов для небольшого рассказа». Со всей очевидностью это демонстрирует любимый чеховский прием параллельных диалогов (как в начале «Трех сестер»).
Скорее, «эпичен» и чеховский способ психологической характеристики. «Действие, особенно в его конфликтах и реакциях, предъявляет требование, чтобы образ был ограниченным и определенным, – писал в свое время Гегель. – Поэтому-то драматические герои большей частью проще внутри себя, чем эпические образы. Более твердая определенность получается благодаря особенному пафосу, который становится заметной и существенной чертой характера, ведущей к определенным целям, решениям и поступкам»