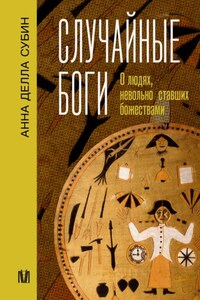– Далеко ли же, собственно, едете-то?
– Да пока что хорошенько-то еще и не обдумали… Мало ли местов-то!.. Новороссийск – вот, говорят, теплое место приготовляется… В Батуме тоже, сказывают, не холодно… Екатеринодар… Ну да и Ростов нашего брата не обижает…
– А по какой же части-то вы?
– Да по какой угодно! Какая часть подвернется под руку, та и наша!.. Ха, ха, ха!.. Ты не гляди на меня, что я пока что в этаком виде. Это со мной сколько раз бывало, а потом попадешь в струю – и сам себя не узнаешь!
Разговор этот, между множеством всякого рода других разговоров, происходил на галерейке третьего класса одного из пароходов Зевеке, шедшего по Волге к Царицыну, в один из ясных и светлых дней нынешнего лета. Человек «в этаком виде», слова которого мне пришлось услышать, невольно обратил на себя мое внимание. Что-то чрезвычайно знакомое послышалось мне в его словах, и не столько в самых словах, сколько в манере, в тоне, которым они были сказаны. Не то чтобы я видел где-нибудь именно этого человека, находившегося «в этаком виде», – я только вспомнил, благодаря его манере и тону разговора, что на моем веку мне уже не раз приходилось слышать эту манеру разговора и этот тон и что они почему-то меня интересовали. Не умея дать себе отчета в этом и все-таки интересуясь человеком «в этаком виде», я подошел к нему поближе и постарался рассмотреть повнимательнее.
Человек «в этаком виде» был то, что называется «верзило»; на обертках лубочных изданий Никольского рынка в таком именно виде изображают обыкновенно фигуры «витязей»: шлем, под шлемом таинственные глаза и храбро расправленные усы; нос не всегда виден на этих рисунках, ко всегда удачно изображенное истуканство общей фигуры не утруждает внимание зрителя мелочами, и, не замечая носа, вы все-таки видите, судя по усам и истуканству, что это, должно быть, непременно «витязь». С первого же взгляда на человека «в этаком виде» бросалось в глаза именно его истуканство, топорно приделанные под бесформенным носом топорные усы, таинственные бледно-серые глаза на широком, ничего не выражающем лице и весьма пространный рот; этот большой, весьма подвижной во время разговора рот, составляя существеннейшую черту всего истуканского облика человека «в этаком виде», делал понятным всю топорность, тяжеловесность и огромность его фигуры и был как бы указателем того, что в фигуре этой прежде всего надобно видеть «пасть», а уж все остальное само собой приходилось к ней. Не было на этом истукане шлема и воинских доспехов; на голове надета была плоская широкополая соломенная шляпа, а на теле – почти воздушная парусинная пара, уже приведенная в нищенское состояние и так же подходившая к этому исполинскому телу, как к волку вместо волчьей шкуры подходила бы нежная шерсть кролика. Во всяком случае это истуканное существо выделялось из общего уровня физических размеров, доступных современному обывателю, и, продолжая напоминать мне что-то уже знакомое, настоятельно требовало ближайшего с ним знакомства.
– Теперь я на что похож? У меня вон всего-навсего и имущества-то осталось: пара галош да зонтик, а я надеюсь на бога! Пойдет струя – и опять пошел в ход!.. Теперь на мне шапка, видишь, какая? А случись струя – хвать, и цилиндр на темя вскочил, а пожалуй, и шапокляк под мышкой зашевелился!.. Моя, брат, жизнь – тайна! Ежели мою жизнь описать, так это будет полный роман… Я уж пробовал писать, только все недосужно…
Истукан, сидевший за чайным столом с компанией попутчиков и собеседников, пивших чай и закусывавших хлебом и арбузами, проворно опустил руку в боковой карман, вытащил оттуда пачку каких-то бумаг и стал в них рыться.
– Всё адреса. Вот письмо князя Махоркина: «Любезный Мартын Петрович! не откажите мне в вашем благосклонном содействии…» Всего бывало! Это вот от пароходного общества «Север» телеграмма: «Прошу покорнейше отправить двести пятьдесят тысяч…» Всего было! Всего не пересмотришь! Это вот купчиха: «Милый мой и неоцененный!..»