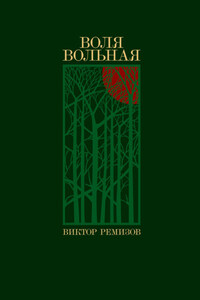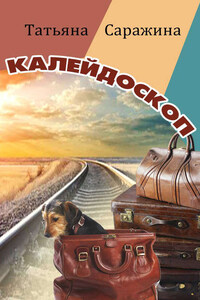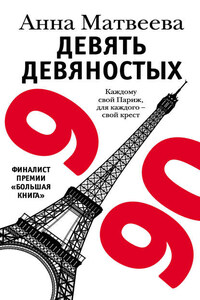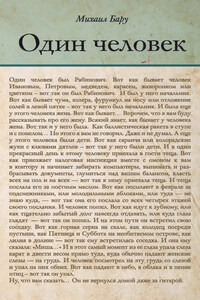Генка распутал веревку, завязал за вбитый кол, натянул, надежно ли, и пошел к лодке. Старая разбитая «обяшка» покачивалась у берега. На носу высокой рыжей кучей веревок и поплавков громоздился невод. Гремя пустыми бортами, вставил весла и кормой вперед неторопливо погреб на струю. Невод широко пополз с носа, зашуршал-забренчал о край, груза́ с хлюпаньем и брызгами падали в воду. Утреннее солнце как раз выглянуло из-за горы и начало пригревать. Налипший на стланях ледок мокро топился в лужицы.
Не спешил, легко опускал в прозрачную воду грубо тесанные листвяжные весла и время от времени оборачивался за спину – держался края течения, обметывая яму. Весь август так вот рыбачили они с сыном… Генке тогда как будто все равно было – много там рыбы, мало. Заводили, вытягивали на мелководье, Мишка заходил в невод, выбирал отчаянно бьющихся пузатых самок и бросал на берег отцу, а он, зажав дымящуюся сигарету углом рта, прищурившись и наклонив голову набок, вспарывал мягкое, тонкое понизу серебряное брюхо. Нежные, фиолетово-мясные ястыки[1] бросал в таз, рыбу в воду. Уже безвольную и едва шевелящуюся ее уносило течением.
Но то было в августе, недалеко от поселка и ради денег. Сейчас Генка ловил у себя на участке, в своей речке, и не на икру, а рыбу на промысел. Ему важно было, что он там зацепил, и он нет-нет косил глаза. Веревка, привязанная за нос, тяжело натянулась. Дуга светлых пенопластовых поплавков напряженно плясала по рябой зелени воды, как раз охватывая все у́лово[2]. Генка налег на весла, круто заворачивая к берегу.
В сужающемся овале невода метались темные спины. Уйти можно было только через верхний урез, через поплавки, но для этого надо было подняться и показать себя, и как раз этого рыбы боялись и продолжали тупо рваться сквозь прочную ячею. Перескакивали самые отчаянные, но таких находилось немного. Остальные, вся разноперая ватага – серебряно-розовые гольцы, полосатая тяжелая кета, обитатели чистых ключей вольняшки-хариусы – перепуганной толпой упирались, держали невод, помогая рыбаку маятником сваливаться к берегу и окружать самих себя.
Генка всегда удивлялся: развернулись бы вниз по течению, все бы и ушли, и ничего бы он не сделал. Даже вместе со всей его снастью ушли бы, вон их там сколько. Но они не смели нарушить не ими установленные законы, и Генка, чувствуя неподатливую тяжесть разбухшего от рыбы невода, с усилием, раскоряченными ногами и всей спиной упираясь, приближался к берегу.
Хорошая была яма; он и базовое зимовье здесь поставил, потому что лучше рыбалки по всей Юхте не было. Лодка глухо зашуршала алюминием по гальке, Генка выскочил на берег и схватился за веревку. Тяжелый живой куль невода сам медленно затягивался в обратное течение улова. Генка потянул, понял, что не осилит, и, накинув веревку на плечо, как бурлак, уперся от речки. Косяк сдавался, сзади уже как следует забурлило и заплескалось. Генка вытянул край на берег, захлестнул за крепко вбитый кол и, крякнув довольно, вытер мокрые красные руки о куртку. Сигареты достал.
Рыбы было много. Она уже не могла биться, давила друг друга на мелководье. Обреченные рты хватали воздух сквозь сеть, жабры хлюпали и пускали пузыри. Здоровый, кил на восемь, широкий самец кеты забился и сам по мокрой гальке выскочил на берег. Генка присел на корточки, разглядывая живые, тугие тела. Покуривал спокойно и благодарно, думал, как завтра еще раз заведет и хватит. Хорошо попало – на весь сезон: и собакам, и на приваду.
Он, как и все промысловики, очень любил эти первые дни перед началом охоты. Речка, лес – все было заново. Все чуть-чуть другое. Старого корефана, с кем год не виделся и кому рад, так рассматриваешь. Поседел, что ли, шрам новый, морщины на лбу, раньше вроде не было… Так и здесь. Берег обвалился в речку, тропу засыпал, вековую лиственницу вывернуло поперек поляны, чуть не на избушку. А еще больше всяких мелочей… все было поновленное, яркое.