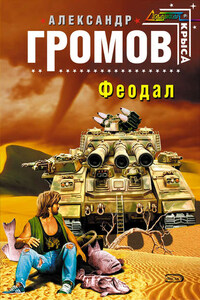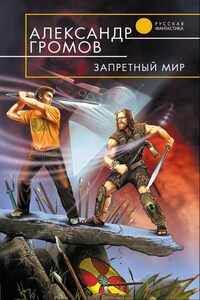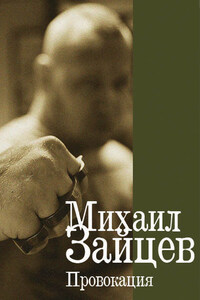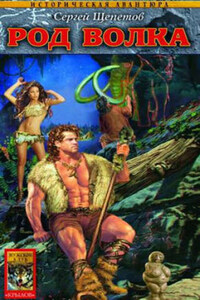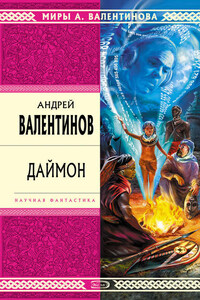Завтра меня будут судить.
Нет, я не виновен, во всяком случае, таковым себя не считаю. Дело за малым – чтобы таковым меня не сочли присяжные. У них будет трудная задача, и я им заранее сочувствую. Впрочем, завтра будет видно, кому в действительности пригодится сочувствие. Боюсь, что мне. И истец, я уверен, не пожалеет слов для того, чтобы обрисовать мои им же вынужденные поступки в самом черном и невыгодном для меня свете. Он взбешен и жаждет мщения, сладострастно потирая руки.
Пусть. У меня еще есть надежда: в сущности, ведь не доказано, что я совершил преступление. И может быть, то, что я собрался написать, как-то поможет делу? А что, это, пожалуй, идея. Оратор из меня никакой, чего доброго, начну невразумительно мямлить, когда судья спросит меня о мотивах, – но если мне удастся выразить на бумаге хотя бы десятую часть того, что мне пришлось пережить, весы Фемиды должны дрогнуть. Обязаны. У меня, как и у всякого другого, есть право давать показания в письменном виде.
Приговор? Не думаю, что он будет очень уж суров – вероятно, лишение какого-либо гарантированного права на более или менее продолжительный срок. Какого? – вот вопрос.
Права на жизнь? Разумеется, нет: никакой суд не правомочен решать такие вопросы, будь я хоть трижды убийцей. Не Средние века. К тому же, я никого не убивал. Это меня чуть не убили.
Права на общество себе подобных? Не смешите меня. Это не наказание, а благо. От себе подобных только и жди какой-нибудь пакости или нечуткости – нет, не ко мне лично, это бы еще полбеды, – а к делу, которому я посвятил большую и лучшую часть своей жизни. Делу! – а не общению с субъектами вроде моего истца.
И далее – в том же духе, по перечню гарантированных прав. Решительно не возьму в толк, как суду удастся решить главную свою задачу: заставить преступника раскаяться? Во-первых, я не считаю себя преступником и не постесняюсь заявить об этом во весь голос, а во-вторых, не раскаиваюсь и раскаиваться не собираюсь. Уверен: всякий на моем месте поступил бы точно так же. Если не хуже.
И все-таки я кривлю душой. Есть, есть одно право, лишения которого я смертельно боюсь… Черт, что за плоское слово – «боюсь»? Совершенно не отражает сути моего состояния. Страшусь? Бр-р… Ужасаюсь? Еще того хуже. Нужного слова нет. Но эпитет «смертельно» верен, потому что отнять у меня это право – все равно что отнять право на жизнь. Не менее.
Я вам скажу, какое это право, все равно ведь догадаетесь рано или поздно. Но постарайтесь не смеяться. И уж тем более не нужно меня жалеть, жалости я не терплю. Откройте перечень гарантированных прав и прочтите на странице пятой под номером двадцать семь: «Право на время, материалы и условия, необходимые для занятия деятельностью, не представляющей угрозы для человечества и выполняемой в свободное от основного труда время». Витиевато, но исчерпывающе. Некоторые называют это правом на хобби.
Ну вот, еще одно идиотское слово.
Чахлое растеньице неопределенного цвета, конус ломких листьев, окружающих хилый стебель с единственной почкой наверху, из которой, может быть, лет через пять разовьется вялый скомканный цветок. А может быть, и не разовьется. Природа решила пошутить, отпустив растению долгий тепличный век и очень мало жизни. Росток до того слаб, что трудно понять, как он вообще способен выбраться из земли, – но он все же выбирается, похоже, только затем, чтобы печально продемонстрировать миру свою бледную немощь. Это, с точки зрения профана, и есть конусоид остролистный, привередливый гость, завезенный из невообразимой дали будто специально для того, чтобы людям вроде меня было чем заняться.
Выращивать конусоиды – дело почти безнадежное, а если за это берется простой любитель, то безнадежное втройне. В девяносто восьми случаях из ста он разорится на рассаде, ничего не добившись, а если не разорится, значит, он либо очень состоятельный человек, либо плохой любитель. Удачи редки. И если любителю удалось-таки взрастить, да еще в обыкновенных цветочных горшках, пару кривоватых росточков, годных для высаживания в грунт, то этот любитель вправе преисполниться любой степени самодовольства, включая сочинение од и мадригалов в свою честь. Другой пользы от конусоидов нет и не предвидится. Зато счастливый обладатель проросшего уникума отныне обречен на плохой сон и скверный аппетит. Он отложит деловые встречи и отменит самое необходимое, чтобы иметь возможность лишний раз подышать над росточком или поэкспериментировать с новым видом питательной смеси. Если любитель человек увлекающийся, он потерян для общества навсегда. Это маньяк. Он одержим стремлением познакомить мир с принадлежащим ему чудом. Если ему удается затащить к себе какого-нибудь простака, он благоговейно указывает перстом на цветочный горшок и тут же, наслаждаясь и мучаясь одновременно, шипит на гостя, подошедшего к растению слишком близко. Друзья к нему не ходят. Широкие слои общественности, к сожалению, прискорбно равнодушны к вопросу акклиматизации конусоидов на Земле. Остается одно: стучаться в двери ботанических институтов и селекционных центров во всей обитаемой Вселенной и регистрировать свои ростки под разными номерами в надежде когда-нибудь встретить свое имя в почтенном академическом каталоге. И вот он гордо ступает на борт космического лайнера и дерзит помощнику капитана, категорически отказываясь сдать свои горшки в багаж под надзор киберов. Дрожа за судьбу своих питомцев, он неуклонно движется к розовой мечте – не к славе, нет, слава ему не нужна, – а только к признанию своих усилий и трудов, поистине титанических. Это смешно, скажут многие. Что же тут смешного, достойно отвечу я, если человек определил цель и смысл своей жизни?