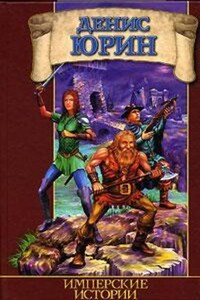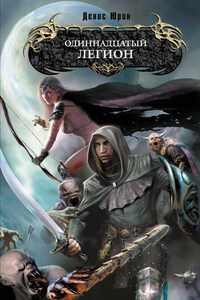Придорожный трактир «Трехногий петух» был преуспевающим заведением, несмотря на убогость обстановки, затхлость атмосферы внутри недостаточно большого и лишь изредка проветриваемого зала, грубость и нерасторопность частенько пребывавшей в подвыпившем состоянии прислуги, а также сомнительную свежесть подаваемых блюд.
Посетители постоянно ругались, били посуду назло наплевательски относящемуся к их упрекам хозяину, а порой даже таскали его за сальные и редкие волосенки, но толку от этого не было никакого. Синяки и ссадины заживали на толстощекой физиономии ленивого корчмаря поразительно быстро, а его расчетливый мозг, спрятавшийся в глубинах алчной головенки за маленькими, бесстыже прищуренными глазенками, не видел необходимости что-либо менять. К чему обращать внимание на упреки вечно недовольных гостей, когда каждую ночь в переполненном зале не протолкнуться, а выручке невзрачного и ветхого трактира у дороги позавидовала бы даже самая престижная столичная ресторация?
Не смущала хозяина и нелепость названия, кое-как выведенного на раскачивающейся над входом в заведение вывеской. Как человек, большую часть жизни проживший в деревне, он прекрасно знал, что у петухов, как, впрочем, и кур, не ноги, а лапы и что трехлапые домашние птицы – такая же несуразная нелепость, как снег, идущий в разгар жаркого-прежаркого лета. Посетители считали название абсурдным, но это не мешало им оставлять в трактире свои гроши. Хозяин же, наоборот, гордился нелепой выдумкой, делающей его заведение «запоминающимся», а следовательно, успешным; и по утрам, когда переждавшие ночь странники разъезжались, расходились или, на худой конец, расползались на четвереньках, радостно подсчитывал барыши.
Впрочем, если честно признаться, успех трактира крылся отнюдь не в бросающейся в глаза глупости названия, а в верном расчете ныне покойного отца алчного толстяка. Он построил грязный и душный барак, весьма походивший на нищенскую ночлежку, в очень выгодном месте. Заведение располагалось на пересечении двух важных трактов, так что в нем останавливались на ночь не только путники из соседней Геркании, но и странники, идущие иль едущие с востока, от имперской границы. Частенько посещали «Петуха» и торговые караваны, хотя прибыли с путешествующих торговцев было немного. Не менее расчетливые, чем корчмарь, инородцы-коммерсанты везли провизию с собой, а на ночлег становились лагерем в поле, предпочитая духоте и узости плохо прибранных комнатушек свежесть ветра и чистый воздух вольных просторов. Караванщики обычно лишь с часок отдыхали, поили коней и, брезгуя сомнительным пивом жадного корчмаря, продолжали свой путь.
Основными постояльцами «Петуха» становились одиночные или путешествующие небольшими группками путники различного достатка и всех сословий, понимавшие, что до закрытия на ночь городских ворот им уже никак не успеть, или боявшиеся спать в открытом поле, на виду у нет-нет да и появляющихся в окрестностях шаек разбойников. Именно по этой причине самым прибыльным временем суток в заведении была ночь, опасная пора, которую каждому находящемуся в здравом уме страннику хотелось переждать под защитой пусть непрочных, но все же стен и в компании товарищей по несчастью. Ведь разбойники хоть и лихой люд, но разумный! Ни одному, даже самому отчаянному головорезу и в голову не придет напасть на забитый до отказа придорожный трактир, где пережидают темноту разные люди, в том числе и сведущие в воинском деле.
Конечно, до Альмиры, столицы Филании, от «Петуха» было довольно далеко, около десятка имперских миль, и как дальше по дороге, так и в непосредственной близи от городских ворот находилось несколько более пристойных заведений. Однако цены в них были столь высоки, что не только прижимистые купцы, но и частенько бездумно сорящие деньгами дворяне средней руки предпочитали переждать одну-единственную ночь на липкой скамье в грязном и затхлом зале «Петуха», нежели переплатить втридорога за мягкую и чистую постель в почти столичном заведении.