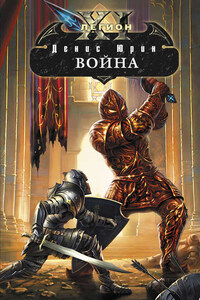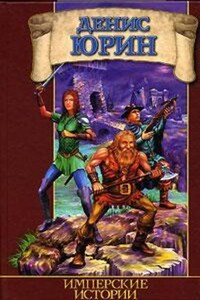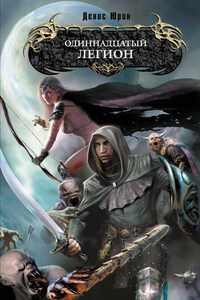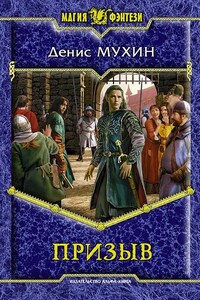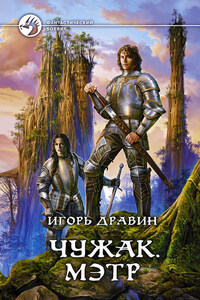Четвертая кружка была лишней. Ранее Крамберг лишь от сослуживцев слышал, насколько коварно шеварийское вино, теперь же смог убедиться в правдивости их слов на собственном опыте. Вкусная, приторно сладкая жидкость пилась на удивление легко, не туманила рассудка, да и координацию движений ничуть не нарушала. Однако стоило только бывалому вояке приподняться с табурета и оторвать локти от стойки корчмаря, как хмельная отрава проявила свою истинную сущность. Первыми подвели ноги, предательски подкосившись в коленях; затем по телу солдата прокатилась волною дрожь, решившая надолго остаться в мозолистых пальцах. Не прошло и пары секунд, как голова мужчины закружилась, взор помутнел, а уставший пребывать в полости рта язык сам собой стал выбираться наружу, неся все менее и менее связный бред, пока еще, к счастью, только забавный, а не опасный…
Осознав, что основательно перебрал, Крамберг не на шутку испугался. Одурманенный хмелем рассудок кое-как, но все же контролировал слова, слетающие с опьяненного свободой, резвящегося на воле языка, но ставил запреты в основном по содержанию, в то время как роковой могла стать ошибка в произношении. Если охотно болтавший с ним корчмарь или кто-нибудь из немногочисленных посетителей придорожного трактира, находившегося неподалеку от Удбиша, хоть краем уха уловил бы в несвязной речи раненого пехотинца малейшую нотку ненавистного герканского акцента, то ему было несдобровать.
Мирные горожане обычно трусливы и пассивны, но мгновенно звереют и способны свершить самую лютую расправу, когда случайно обнаружат, что в их ряды потихоньку затесался хитрый враг, подлый чужеземный лазутчик, прекрасно владеющий родным для них языком. В нем сразу признают опасного недруга, винят во всем зле, привнесенном в их жизнь войной, и вершат самосуд, не призывая на помощь стражу. Ведь это шанс – возможно, единственный для обитателей далеких от бушевавших сражений шеварийских земель шанс выместить на подвернувшемся под руку герканце накопившуюся злобу и доказать (прежде всего самим себе) фанатичную преданность родимой отчизне и шеварийской короне. Крамберг не сомневался, что, признай кто-то в нем чужака, развалившийся за столами люд вмиг очнется от навеянной поздним часом и сытным ужином дремы, рьяно накинется на него скопом, повалит на пол и за какую-то минуту насмерть забьет ногами. И хоть в заполненном запахами съестного и винными парами зале будут то и дело раздаваться вполне патриотичные выкрики: «За короля!», «За Шеварию!» или «Сдохни, пес заозерный!» – лазутчик знал, что его воодушевленно примутся лишать жизни по совсем иным причинам, далеким от верноподданнического, праведного гнева, но куда более близким и насущным для каждого шеварийского простолюдина. Ломая шпиону ребра и пытаясь проломить голову, горожане с крестьянами будут мстить не за поруганную отчизну, а за обрушившиеся на их плечи в связи с войной новые поборы, за потерю в хозяйстве ценных рабочих рук, держащих сейчас вместо сохи или плуга рукоять меча или древко копья; одним словом, станут вершить возмездие за то, что их привычная, ранее легко предсказуемая жизнь отныне течет по извилистому руслу смутной военной поры и уже никогда не станет прежней.
– Говорят, осада Сивикора уже к концу близится… Гарнизон вот-вот взбунтуется и белый флаг выкинет, а ведь с начала войны и двух дюжин дней не прошло… Лукаро штурмом два дня назад взят. Кьеретто еще держится, хоть катапульты заозерников в стенах крепостных изрядно понаделали брешей, а местами и с землей почти сровняли, – охотно делился последними слухами корчмарь, обрадованный, что может блеснуть осведомленностью не перед обычным болтуном-пропойцей, а перед настоящим, побывавшим в боях солдатом.