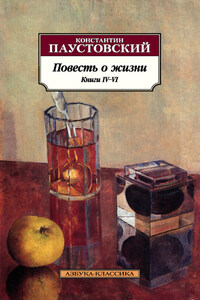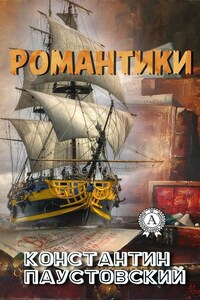В февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.
Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время о Одессе не могло быть и речи.
Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.
Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.
Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».
Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализируют, а нас все равно выкинут.
– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом.
Какие именно могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.
Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.
Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».
До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.
Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта.
Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.
Но зато в библиотеке у профессора стояли и все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это было завидное богатство.
Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна раскрытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.