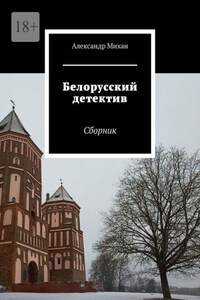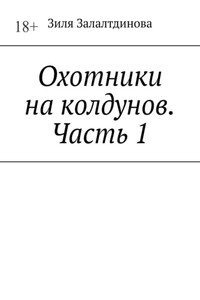(По мотивам рассказа Калины Анны)
Маленькое, Богом забытое село на юге Молдавии давно жило своей собственной, обособленной жизнью. До районного центра – больше тридцати километров, и это еще в лучшем случае, если ехать по проселочной дороге, лежащей сплошь через кукурузные поля и виноградники. В объезд, по шоссе, выходило и того больше. Транспорт «из района» ходил по расписанию – один раз в два дня, но селяне не сетовали: привыкли. Да и искать в городе им было почти нечего: овощи-фрукты были свои, с огородов. В каждом дворе своя скотина; мясо, молоко, брынза – все домашнее, свежее. Хлеб пекли сами, крупами закупались основательно – на полгода вперед. Так и жили.
Когда-то это было вполне обжитое, благополучное и людное по местным меркам село – около трехсот дворов. Сейчас здесь обитало не больше полусотни семей. В основном это были старики и дети, чьи родители уехали в большие города в поисках заработка. Из «молодых» осталось несколько женщин, чьи мужья трусливо сбежали от тяжелой жизни, оставив их растить детей в одиночестве и убогости, да парочка мужичков, заливающих бражкой свою неустроенную жизнь.
Здесь давно уже не происходило ничего особенного. Жизнь текла однообразно и скучно: весенние посевные, летняя жатва, осенние уборочные… Зимами снегом засыпало все в округе, и из села было вообще не выбраться, пока сугробы не разнесет суровым и мощным степным ветром. Весенняя распутица разливалась по селу слякотью, лужами, густой тягучей жижей, и засасывала по щиколотку. Свадеб и крестин давно уже не праздновали: жениться и рожать было некому и не от кого. Похороны справляли всем селом, как одной семьей. В беде все друг другу становились ближе и будто родней. Жизнь текла медленно и размеренно, без происшествий, из года в год, пока в один прекрасный день не случилось кое-чего из ряда вон.
Летнее утро того особенного дня начиналось обычно: будто стараясь перекричать друг друга, мычали коровы, блеяли овцы, голосили петухи. Тут и там гремели ведра и подойники, скрипели калитки, хлопали двери. Гоготали гуси, кудахтали куры, крякали утки. Обычное сельское многоголосье наполняло округу и извещало начало новой трудовой недели – такой же, как все предыдущие.
Из этой веселой и будто отрепетированной беспечной шумихи отдельным звучанием выбивался стук молотка. Ухающий, громкий, резкий. Раскатистое эхо повторяло и удваивало каждый удар. Соседки, Мария и Прасковья, выгонявшие гусей на пастбище, недоуменно переглянулись и насторожились: это еще что такое? В самом звуке, конечно, ничего необычного не было. Удивляло то, что раздавался он со стороны заброшенного дома, в котором уже лет двадцать никто не жил: с тех пор, как умерла его хозяйка, бабка Настасья. Родственники ее после похорон в селе больше ни разу не появились: наследство в этой глуши, видимо, никого не интересовало. Да и местным покосившаяся избенка тоже была ни к чему: их в селе еще сколько угодно таких – пустых и никому ненужных.
Осторожно заглянув поверх подряхлевшего забора, женщины увидели крепкого высокого мужчину, увлеченно вколачивающего гвозди в иссушенную временем и едва державшуюся на проржавевших петлях дверь.
Появился незнакомец здесь, очевидно, ночью, поскольку еще накануне вечером избенка уныло глядела на прохожих наглухо заколоченными ставнями. Сейчас же все окна были нараспашку, на крыльце лежали топор, пила и прочие инструменты. Рядом валялась ржавая тяпка: видимо, новый постоялец хотел избавиться от густого бурьяна, заполонившего двор, да отложил это дело на потом.
Мучиться любопытством местным жителям пришлось не так долго: уже к обеду приезжий постучался к бабке Лизавете, что жила по соседству, и попросил продать ему немного яиц и каких-нибудь овощей. Мужчина был замкнут, угрюм и несловоохотлив, но Лизавете все-таки удалось выяснить, что приехал он сюда из столицы и покойной Настасье приходится внучатым племянником. На вид ему было около тридцати. Он был высок, крепок и миловиден. Русоволосый, кареглазый, с высоким открытым лбом и волевым подбородком, он, очевидно, имел успех у женщин. Но было в нем и что-то, вызывающее жалость и сочувствие. При всей его приятной наружности, Лизавета заметила, что взгляд у незнакомца какой-то потухший, да и сам он выглядел осунувшимся, помятым, издерганным. Видно было, что не от большого счастья бежал он из цивилизации в эту глушь.