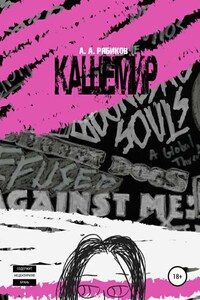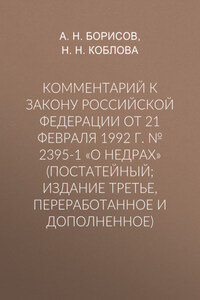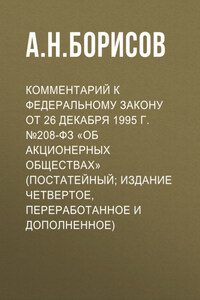Дано: Однополое время года, память – X радуга?
Решение: Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года, старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.
Они жили в ветхой землянке, и ему было ровно тридцать лет, а ей три года, и когда об этом узнали, его посадили в тюрьму, а ее отправили в детскую колонию.
Ответ: Радуга повисла, как Обломов.
I
Бр был действительно бр-р-р. Он служил в церкви, куда прихожане приносили банки и бутылки. Однажды он утаил несколько банок и бутылок и сделал из них кукол. Они были очень похожи на жителей колонии. На горлышки бутылок надевал медовые или майонезные банки, сверху натягивал чулок и приделывал мягкие ватные ноги, а когда кончилась вата, стал прикручивать прутики. Кукол звали так, как было написано на этикетках. Больше всего он полюбил Изоллу-Беллу. Снял с руки часы и надел ей на ручку.
По вечерам колония была гадко прозрачной. За прозрачными стенами сидели у всех на виду однополые существа. Сквозь стены было видно, как кто-то вешается, кто-то пьет чай, кто-то спит.
Днем Бр находился в церкви: принимал бутылки, святил их, а по вечерам он писал – это не преследовалось – об Урне.
Прихожане звенели бутылками все настойчивей, требуя открыть дверь в церковь. Бр посмотрел на часики, они показывали шесть утра, он на всякий случай завел их, и ему стило приятно. В церковные стекла бил резкий снег и занозил их. Бр зажег лампадки у бутылок и пошел открывать дверь.
Прихожане хотели как можно скорее избавиться от этих хрупких предметов культа. Они боялись наказаний за трещины, а еще больше – за укрытые осколки. Они не любили бутылок и боялись их, они не любили свое сходство с ними. Перед входом в церковь они стояли и обсуждали приметы. Те, у кого бутылки после мытья запотели, говорили, что это к сильному морозу. Другие утверждали, что образовавшиеся у горлышка круги не предвещают ни холода, ни осадков.
Бр поздоровался с прихожанами, они заулыбались и успокоились. В церкви было тепло, стоял легкий перезвон, и только через несколько часов он был нарушен криком кошки. Кошки жили в церкви, и случалось так, что они орали и пугались собственного крика, отягченного эхом.
В этот день Бр протирал бутылки, ставил свечки, а когда стало темнеть, застыл и долго так сидел, потому что ему некуда было идти: и дом, прозрачный, как дождь, и дом, горящий, как зуб, – все дома были заполнены кем-то, и с высоты церковного окна было видно, что некуда идти. И он открыл книгу и, как в прошлый вечер и как в вечер своей молодости, написал еще несколько строк и посвятил их Урне.
Урна сняла шапку-поганку, и волосы прокатились по спине. Она разбросала вокруг себя погрешности, какие носят женщины, и стала видна целиком. Урна не была прозрачной, под кожей все было скрыто. Сзади Урна была гладкой. Сзади нее стоял Сокра. Он стоял на грубых пятках и тоже не был прозрачным. Его тело было проще ее. Там, где у нее были курсивом груди, у него – только маленькие опечатки.
Она, казалось, была создана письменно, он – устно. Урна села на колени к Сокра только за образами. Подул ветер и стал толкать их.
Сокра закопал ноги по самые колени в землю, а Урна привязала себя к нему шарфом, и они больше не боялись улететь. Раздался гудок теплохода, и Урна заткнула уши. Сокра подтянул теплоход за гудок, и пассажиры стали выходить на берег. «Хочешь, уйдем? – спросил Сокра. – Сейчас нельзя, нас унесет, – ответила Урна». И они еще крепче прижались друг к другу. Ветер принес раму с целыми стеклами. Оставалось ее только укрепить, чтобы получилось готовое окно с видом на море. Так и сделали. Сокра откопал ноги, Урна развязала шарф и открыла одну створку окна. От влажного ветра окно стало мокрым и все утонуло в ласточках. Ночи стали старше дней, но не доносилось колокольного звона: леконт-де-лиль-вилье-де-лиль-адан.