Начинает виолончель.
Голос её – пурпурный сафьян в мерцании свечи.
Тягучие, медлительные звуки.
Они едва слышны,
словно обитают в самой последней комнате
длинной-длинной анфилады.
"ПРИЛЕТАЮ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ В СУББОТУ УТРОМ УЖАСНО СОСКУЧИЛАСЬ ОБНИМАЮ И ЦЕЛУЮ = ТВОЯ КАТЯ"
Такую телеграмму получила Лера в пятницу.
Выходя из лифта, она столкнулась с заспанным бородатым юношей. Он заглянул в клочок бумаги и спросил:
– На каком этаже двадцать пятая, будьте любезны?
– На седьмом.
– Спасибо.
Наверняка, студент, которому приходится продавать свой сладкий утренний сон за гроши разносчика телеграмм, подумала Лера, и тут до неё дошёл смысл их короткого диалога. Да это же моя квартира – двадцать пятая!
Она кинулась назад к лифту, но тот уже останавливался где-то наверху, вероятно, на седьмом. Лера нетерпеливо нажала на кнопку вызова несколько раз, будто это могло ускорить его прибытие.
Поднимаясь в ужасно медленном старом лифте, она сообразила, что проще было бы дождаться студента внизу. Хотя, нет, так будет всё же быстрее. На полминуты, но быстрее… А вдруг он решит спуститься пешком?..
Нет, вон стоит перед дверью и терпеливо ждёт, когда ему откроют, и вертит в руках сложенный вчетверо листок. Лере хотелось схватить его прямо через решётку: что в телеграмме?!
Сонный студент не сразу понял, что с ним собираются сделать, а Лера тянула его в лифт.
– Это же мне. Мне телеграмма. Двадцать пятая – это моя!
– Что ж вы сразу не сказали? – И он полез в карман за карандашом. – Документы у вас есть?
– Да я Валевская! Из двадцать пятой! – Лера пыталась выхватить заветную бумажку из рук флегматичного бородача.
Тот вдруг рассмеялся и сказал:
– Ну Валевская, так Валевская. Распишитесь вот тут.
Лера распечатала телеграмму и вцепилась глазами в текст. Несколько мгновений она не могла уловить смысла – сбивало с толку обилие слов, среди которых она полуосознанно искала какое-нибудь страшное, несущее несчастье…
Так бывало всегда, когда она получала телеграмму. Даже письма она раскрывала с опаской и пробегала сперва глазами по строчкам, ища только одного – знака беды. Она не смогла бы сказать определённо – откуда это. Может быть, из того давнего праздничного утра, когда разряженные мама и папа дарили ей подарки.
* * *
Что был за праздник – чей-то день рождения или Новый Год, она не помнит, но то, что это было воскресенье, Лера знает наверняка. Только по воскресеньям она просыпалась от шершавого воркованья ручной кофейной мельницы, вслед за которым к ней за занавеску проникал сказочный аромат свежесмолотого кофе, смешанный с самым восхитительным на свете запахом – запахом папиного одеколона. Только по воскресеньям папа брился не механической – заводной, а "опасной" бритвой, для чего он раскладывал в ванной свой "несессер" с бритвенными принадлежностями, взбивал в густую пену маленькую мыльную таблеточку в специальном тазике, смачивая кисточку в специальном стакане c горячей водой, и покрывал ею лицо. Иногда и Лере доставалось на нос по её настоятельной просьбе – в случае, если она не валялась в постели, как в тот раз, а присутствовала при священнодействии с самого начала и до того момента, когда папа, кряхтя и рыча, похлопывал себя по лицу ладонями, смоченными тем самым одеколоном, и поручал Лере "тушить пожар". Она никак не могла разглядеть пламени, как ни старалась, но тем не менее, добросовестно дула изо всех сил на папины щёки.
В то утро всё было просто замечательно. Невыносимо замечательно! За окном огромными хлопьями шёл снег. Счастливые мама и папа веселились не меньше своей дочери. А главное – не было войны, и можно было ничего не бояться. Ни-че-го!
В дверь постучали. Папа бросился открывать и тут же вернулся с телеграммой в руке. Он размахивал ею и приговаривал: "Кто отгадает – от кого?" Мама подпрыгивала вокруг, перечисляя всех друзей и родственников, и, наконец, ей удалось завладеть голубой бумажкой. Кружась и хохоча, она развернула её. Это было сообщение о смерти дедушки – папиного папы.











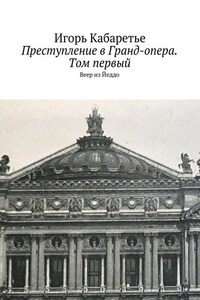
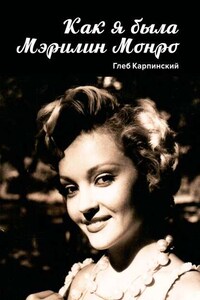

![Полина, иди на свет. [Следуйте за героем]](/uploads/covers/10/10083041ef37154c303cfe212c88ff1c6c6ac3f0.jpg)



