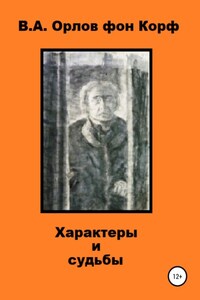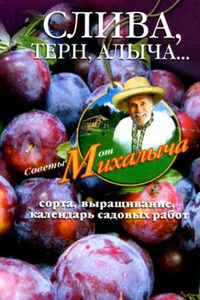Прозу я начала писать гораздо позже, чем стихи. Собственно, я не знала, проза ли это.
В Ростовском книжном издательстве готовился коллективный сборник. Вениамин Константинович Жак, которому я показывала всё, что писала, сказал редактору, Люде Рычаловской, что я пишу прозу. Мы с ней давно знали друг друга, и она позвонила мне на работу:
– Света, принеси мне свои рассказы.
– Я не уверена, что это именно проза. Давай договоримся: я покажу тебе то, что написала, а ты мне – что у тебя есть для этого сборника.
Принесла школьную тетрадь в клеточку, исписанную карандашом. Только Люда могла читать такое безобразие!
А мне она дала прекрасно оформленную рукопись, на белой бумаге, с полями, абзацами и красной строкой.
– Люда, но у меня же совсем не похоже!
– И слава Богу!
Так моя первая проза появилась в печати. Я осмелела! Я писала ещё! Приносила свою прозу в журнал и в единственное издательство, но не все редактора были так проницательны. У меня спрашивали:
– Какой это жанр?
Я не знала – какой, и мне возвращали рукопись.
Точно так же я не знаю, какой жанр у книги, которую вы открыли. Я бы определила его как исповедальный.
Мне хотелось написать смешную книгу, и сначала вроде получалось. Но чем толще становилась рукопись, тем больше я понимала, что в ней всё смешалось, как в жизни: смех и слёзы, счастье и горе, радость и печаль – как у всех.
Связывает всё это, по-моему, само название. Мне кажется, только человек с такой неистребимой наивностью и доверчивостью, как я, мог нажить материал на целую книгу!
В шестом классе со мной стряслась, как мне казалось, самая большая беда в моей жизни. По школе пустили гулять стихи про нашего историка. А поскольку Поэтессой в школе была я…
Не писала я этих стихов! Меня не слышали и не хотели слушать. Учительница литературы выгнала меня из класса до маминого прихода. Историк вообще изгонял меня со своих уроков день за днём без объяснения причин.
Главное, я даже не знала, от чего защищаться, до меня эти стихи не дошли.
Мама пошла в школу. Я ждала её дома и думала, что несчастней меня нет человека на земле. Мама шла домой и думала, наверно, что несчастней её нет человека. Такое у неё было лицо, когда она вошла.
– Ну и что мне с тобой делать? Стихи грязные. Мне и в голову не могло прийти, что ты знаешь такие слова. Что значит – гоп со смыком?!
– Мам, представления не имею, что это значит. Там есть такие слова? Это ужасно… Я не писала этих стихов, я их даже не видела!
– Тебе обязательно надо высовываться, в наше-то время! Я ещё наплачусь с тобой. Зачем ты написала сочинение в стихах? Почему ты хотя бы не делаешь вид, что слушаешь на уроках?
– Что мне делать? Как я посмотрю в глаза Гиббону… Георгию Ивановичу? Он же уверен, что это я!
– Я поговорю с ним, но с твоими стихами надо разобраться. У нашего бухгалтера брат – поэт. Я попрошу, он посмотрит твои стихи и скажет, можно тебе их писать или нет.
– Ну как это – можно ли писать? Разве можно человеку запретить писать стихи?
– А что же делать, если от них одни неприятности! Так ты покажешь ему стихи? Это Жак.
– Жак, тот самый, что написал про Тентика, мальчика-соломинку? Если бы он согласился, было бы здорово!
Господи, сколько в жизни будет связано с Поэтом, которому я несла свои стихи! Как я волновалась!
На той квартире у них я была всего один раз. Полная женщина открыла дверь. Молодой человек, который не помещался на диване, длинные ноги упирались в стенку шкафа, качнулся, как гимнаст, и встал. Наверно, я была очень серьёзной, ещё бы, ведь решалась вся моя жизнь!
Вениамин Константинович сидел за огромным столом в крошечном кабинете. Он показался мне очень пожилым, хотя по сегодняшним подсчётам ему было чуть за сорок.