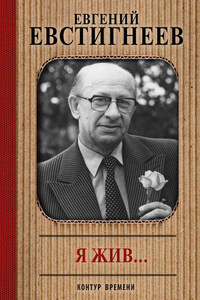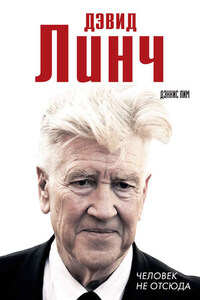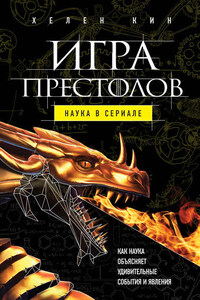В детстве я, как многие девочки, собирала портреты артистов. Когда я приехала в Москву поступать в театральное училище, в моем дневнике была закладка – фотография Евстигнеева из «Невероятных приключений итальянцев в России», кадр, где он со сломанной ногой – веселый, озорной, но больной. Я не особенно берегла эту открытку и даже записала на ней какой-то телефон. Со странным чувством я вспоминаю теперь о ней – как о случайном знаке своей судьбы.
Я училась в Школе-студии МХАТ у Василия Петровича Маркова. В конце второго курса он собрал нас и объявил, что с нами будет работать Евгений Александрович Евстигнеев – ставить «Женитьбу Белугина» Островского. Для Евстигнеева был устроен специальный показ, но он ушел молча, ничего нам не сказав. Мы гадали, кого он выберет: всем хотелось работать с ним, он был не просто знаменитость, «звезда» – любимый, обожаемый нами артист. Я, суеверная трусиха, нарочно не стала читать пьесу и потихоньку выспрашивала у однокурсников, о чем она, какие в ней роли. В начале третьего курса пришел Евгений Александрович и прочитал свое распределение. Мне досталась главная героиня, Елена Кармина, чего я никак не ожидала, ведь я считалась характерной актрисой. Так мы встретились впервые – как учитель и ученица.
У Евстигнеева-педагога не было какой-то определенной методики. Он был гениальный актер, но не умел объяснять технологию своей работы. Он ощущал роль интуитивно, словно его касалось какое-то озарение. Так было и на наших репетициях. Он никогда не говорил о сквозном действии, сверхзадаче образа – он показывал, мы его повторяли. Он был нашим идеалом, кумиром; мы старались подражать ему как актеру, как личности. Наблюдали, как он двигается, как говорит, как молчит; замечали, как он пропускает какие-то вещи – наши опоздания, нарушения дисциплины. Он был не такой, как другие педагоги, никогда не делал нам замечаний, не ругал. Он нас только хвалил. Наблюдать за ним, пытаться понять, осмыслить его было великим уроком для нас всех. Когда его не было на репетициях, Софья Станиславовна Пилявская, наш педагог, работавшая с ним в паре, наставляла нас, что-то закрепляла, говорила про Станиславского, про жизнь человеческого духа. Евгений Александрович не объяснял – он просто это делал, он так жил, он так работал. Мы смотрели на него и учились.
Однажды ему предложили стать руководителем курса в Школе-студии. Он отказался, даже испугался: «Мне же придется их ругать. Я не могу». Евгений Александрович был философом в жизни и никогда не признавал за собой права судить людей и управлять ими. Это была его принципиальная жизненная позиция. Удивительно – при его огромной популярности он был абсолютно лишен тщеславия и оставался очень скромным человеком. Он отказывался от всех официальных постов и должностей. Ему было противно видеть художников, выходящих на трибуну и вещающих, как надо жить, что́ есть сегодня добро и что есть зло. Он считал, что Бог все видит и все рассудит.
Те годы, что мы прожили вместе, мы были очень счастливы. Правда, прошли через множество сплетен и разговоров. Он был намного старше меня и знаменитость; существует стереотип восприятия такой связи. Сами мы не придавали этому значения, но сталкивались с этим постоянно. Нам всегда приходилось бороться за наши отношения. Но у нас было негласное соглашение: мы-то знали правду друг о друге. А разговоры – что ж, люди любят поговорить.
Я могу сказать: он лепил меня, он меня создал. В разных жизненных ситуациях, в профессии он всегда умел что-то подсказать, сориентировать. Для меня Евгений Александрович был идеальный человек, а он культивировал во мне то, что ему хотелось. Я научилась понимать его без слов, как он понимал меня. Я знала каждое его желание, а он – мое. Мы могли находиться в квартире в течение целого дня, не встречаясь, и нас это не тяготило; мы всегда чувствовали друг друга. Так и сейчас – я мысленно советуюсь с ним…