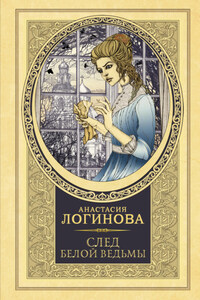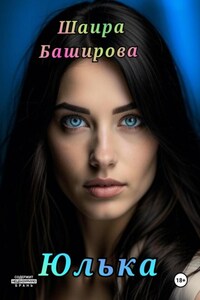Яд изумрудной горгоны
1895 год. В ночь на первое мая, которую в Европе называют Вальпургиевой, в институте благородных девиц разыгралась драма: застрелены двое молодых докторов, а вместе с ними найдена и одна из юных воспитанниц – отравленной. Яд – оружие женщин, как известно, и все указывает на то, что столь жестокое убийство и правда совершила одна из хрупких и изнеженных воспитанниц института…
Дело поручено петербургскому сыщику Степану Егоровичу Кошкину, а в добровольные помощники вызвался его приятель и сосед, эксцентричный химик Воробьев, весьма сведущий в самой передовой криминалистике.
| Жанры: | Остросюжетные любовные романы, Исторические любовные романы, Исторические детективы |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2024 |
Сразу хочу предупредить, это четвертая книга из цикла про Кошкина. А я её прочитала первой. И хотя многое было мне понятно, но очень хотелось узнать предыстории некоторых моментов. Тут так и требовалась небольшая справка. Но общую картину я смогла сложить.
А преступление очень запутанное произошло. Два врача застрелены в институте благородных девиц, да еще и одна воспитанница погибла, как в дальнейшем окажется от яда.
Все будет очень туманно и не так просто. Кошкину придется поломать голову, как и мне, собственно говоря. Причем я до конца не подозревала, кто же убийца. И не понимала мотивов. Но как узнала, что произошло на самом деле, думала, а почему я сразу не догадалась.
На фоне шикарной детективной линии будет идти и драматическая. Ведь у героев не все хорошо в обыденной жизни. Каждый по своему несчастлив, хотя достоин счастья.
Очень аутентично передана атмосфера Российской империи. Нравы и традиции. То, как друг другу относятся мужчины и женщины. Я буквально погрузилась в историю.
И, повторюсь, в восторге от детективной линии. Это же надо так придумать и развернуть. Браво.