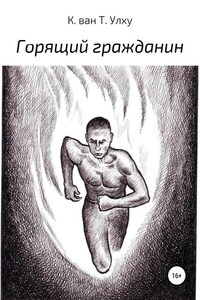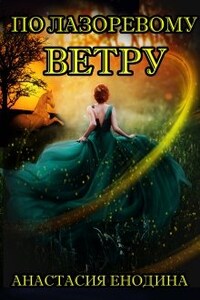Раз, два, три, четыре, пять —
вышла Кира погулять…
«Погулять», смешно.
Детская считалочка – просто чтобы хоть чем-то занять бесполезный мозг во время так называемой прогулки. Обычно я считаю шаги, их бывало сто – иногда полтысячи, а сегодня захотелось игры.
Раз, два, три – я стою в крови.
Три, четыре, пять – вот пятно опять…
Спустя неделю моего пребывания в женской колонии «Касатка» я обнаружила на полу в камере целых три бурых лужи. Кровь невозможно спутать ни с чем, если ее не отмыть сразу – она навсегда въедается во что бы то ни было: руки убийцы, человеческую душу или цементный пол. Судя по оттенку – лужи появились на полу в разное время и, ясное дело, вытекли из незнакомых друг другу людей. Кем были эти несчастные? А сколько приговоренных к разным срокам душ покинули этот мир, не оставив после себя даже кровавого отпечатка: повесившись или отравившись? Совершив какое преступление, они не смогли справиться с чувством вины и выбрали смерть? А не все ли равно? Не о том думаю. Преступление у каждого свое, и все расплачиваются за него по-своему – кто-то в этом мире, кто-то уже в ином.
Сегодня у меня маленький юбилей – семьсот тридцать дней молчания. С моим речевым аппаратом все в полном порядке. У меня не своровала язык кошка, мне просто больше нечего сказать этому миру. Я по своей воле отказалась произносить слова, мне так спокойнее.
Следователь, который вел мое дело, расценил молчание как необоснованное высокомерие и самодовольство. Доктора, обследовавшие меня, разглядели в моем нежелании говорить сразу несколько разновидностей афазии. И любезно пояснили, что это за зверь такой: афазия – локальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи. Интереса развенчивать безумные и глупые домыслы всех этих людей у меня не было и нет. Я просто продолжаю молчать.
Четыре грязно-серые стены одиночки и небо сквозь решетку – реальность, которая меня вполне устраивает.
У меня ужасно болят все кости – лопатки, копчик, локти. Синяки по всему телу выразительно кричат о том, что за месяцы тюремного заключения внушительная жировая прослойка ничуть не спасала от жесткости тюремной койки. Кровать – деревянный настил, накрытый наполовину сгнившим матрасом, стол на одной ножке, намертво приколоченный к стене, табурет, раковина, унитаз и зарешеченное окно размером с подушку – скромный интерьер моих покоев. У кого-то небо в алмазах, а у меня – в клетку. Но я не жалуюсь. Меня все устраивает.
Одиночка – это мой выбор, а не, как полагают многие, Уголовного кодекса. Я намеренно нарушаю тюремный устав, только бы оказаться в одиночке. Я не нуждаюсь в социуме и в общении. Мне не интересны судьбы других несчастных, которые то и дело норовят «поговорить по душам». Меня раздражают рассуждения о светлом будущем вне этих стен, раскаяние и обеты избрать верный жизненный путь. Мне хочется одного – тишины и покоя, и я их получаю.
«Жизнь – боль» – читаю на одной из стен, практически у изголовья койки, слова, написанные, скорее всего, углем. «Отсижу за чужие грехи и начну свою жизнь с чистого». Помада, что ли? «Провести остаток дней здесь не страшно. Страшно было жить в постоянной лжи, предательстве и изменах» – маркер, может быть, фломастер зеленого цвета, но такой огненный по смыслу текст. «Здесь была Я – Нонна Ветер. 1980–1985»; «Лучше смерти может быть только смерть»; «Отче наш, ижи еси на небеси. Да святится…»; «Черная вдова – да будет так!»; «1968–1972»; «1993 – прекрасно, что смертной казни в нашей стране больше нет, – отсижу и продолжу начатое. Л.В.»; «Жизнь, прощай. Если Ад в самом деле такой, каким его описывают, – я лучше перееду туда»; «Т.К.»; «Конец»; «Сижу за решеткой в темнице сырой… Но я не орлица, а он был КОЗЕЛ». Красные, синие, черные, зеленые надписи поверх затертой до дыр побелки исполняют роль обоев в моем нынешнем жилище, разных цветов и разного содержания, но общее у них все же нашлось – боль. Никто в подобные места не попадает просто так, каждого в клетку загоняет одно чувство – боль обиды, боль потери, боль предательства, боль измены. Кто-то из попавших в эту конуру оставил кровавый след, кто-то всего лишь каплю чернил, но я уверена, четыре стены отпечатались в душе каждого кровавым тавром.