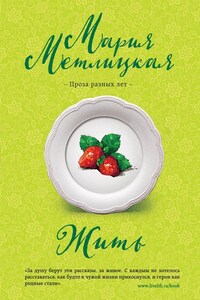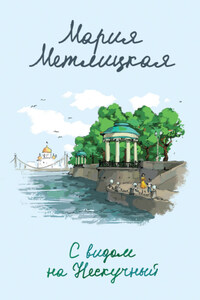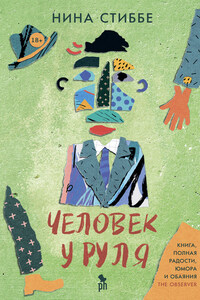В поездах Никитин никогда не спал. Разве что в молодости – беззаботной, веселой. Тогда спал, да еще как – беспробудно, как сурок. Так, что будила его проводница: «Эй, парень! Вставай! Не ровен час проспишь остановку».
С возрастом все изменилось.
Но главное, по чему Никитин так тосковал, – давно позабытая легкость. Легкость во всем. Легкое ко всему отношение. И еще – только в молодости, далекой и безвозвратно ушедшей, было сказочное ощущение перманентного нескончаемого праздника. Праздника, который будет всегда с тобой, – тогда, в молодости, он считал себя везунчиком. А это было сказочным ощущением, надо сказать.
Все прошло. Конечно, пятьдесят два для мужика не возраст – в пятьдесят два еще круто можно повернуть и изменить свою жизнь. Так круто, что наверняка закружится голова. В пятьдесят два можно начать все сначала – прожить вторую, новую жизнь. В отместку той, первой, увы, не самой удачной.
Но обнулить ту, прошлую, жизнь почему-то не получалось.
И еще страшновато было осознавать, что та, прошлая, жизнь – черновик, а вот на беловик сил почти не осталось.
Из Москвы Никитин уезжал поздно вечером, в одиннадцать. Расстояние до Н. пустяковое – всего-то четыреста верст! Но новомодные удобные и быстрые «Сапсаны» в его городок не ходили – пассажиров не набиралось и получалось невыгодно. Вот и приходилось тащиться всю ночь. В это время спокойно, почти без привычных пробок, он быстро доезжал до вокзала, ставил на паркинг машину – оплату за два дня он точно переживет – и шел на перрон. Когда-то он любил поезда, с их вечным запахом уголька и мазута, с теплым купе, со стаканом крепкого чая в металлическом подстаканнике, мелодично позвякивающем в такт колес. С тихими полустанками со слепящими прожекторами, городки и поселки с короткими, в минуту, остановками и ровным, безразличным голосом диспетчера, монотонно объявляющего о прибытии поезда.
Никитин любил приезжать в свой город ранним утром, когда еще клубился, стелился над крышами нерастворенный молочный рассвет и утренняя прохлада не отменяла пешей прогулки до отчего дома. Всего полчаса размеренным шагом и, разумеется, с пользой для здоровья. Как у всех москвичей, его обычные перебежки были короткими – машина, офис, подъезд.
Он шел по знакомым улочкам, и каждый раз его накрывала счастливая мысль, что тогда он сделал все правильно.
Да, да, он все сделал правильно! Его поспешный побег был оправдан, и мысль эта грела и придавала ему сил. В плохую погоду пешком идти не хотелось, и он подходил к стоянке такси. Хотя какая там стоянка – громко сказано. На небольшом грязном, заплеванном пятачке крутились местные привокзальные бомбилы, похожие на всех бомбил нашей необъятной родины – жуликоватые, наглые, развязные и беспардонные.
Жадным взглядом они шарили по толпе, выискивая среди вновь прибывших «жирных» клиентов – возможно, командированных или просто залетных.
Но командированных было мало – когда-то известный и крупный завод приказал долго жить. Правда, в нулевые он был выкуплен каким-то олигархом, но мощи своей не возродил – работала там всего пара цехов. Был завод – и не стало. А на небольшом, тоже почти умершем, камвольном комбинате работали одни женщины. Больше промышленности в городе не было. И как следствие не было работы. Ситуация эта была обычная, рядовая. Так жила почти вся Россия. И небольшой, тихий городок хирел день ото дня. Грустно было смотреть на полупустые и пыльные улочки, на жалкие магазинчики со скудным дешевым ассортиментом, на плохо одетых людей, на покосившиеся заборы и давно не крашенные крыши, на хмурые, тоскливые пятиэтажки, построенные в семидесятых и казавшиеся тогда верхом совершенства и предметом сладких, почти недоступных грез. Квартиры в «городских» домах давали только работникам и служащим завода. Были еще два дома «для белых людей» – так называли в народе дома для начальства: заводских инженеров, начальников цехов, комсоргов и парторгов. К этим пламенным ловкачам присоединялись и слуги народа – деятели райкома и городского совета. Вернее, заводское начальство присоединялось к верхам и сливкам.