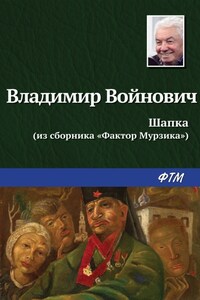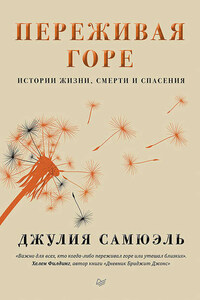Мне кажется, я заслужил место в книге рекордов. Этот роман писался без одного года полвека. В 1958 задуман, в 2007-м окончен. Задуман был сразу как эпическое, растянутое во времени сочинение. Отсюда и название «Жизнь и необычайные приключения». Меня все время удивляло, почему, читая книгу в том виде, в каком она была, ни один человек не спросил: «Приключения-то есть, а где же жизнь?» Жизни в первых двух книгах было всего-то лето и начало осени 1941 года.
В самом начале, замыслив роман, я сочинял его больше в уме, думал о разных поворотах сюжета, комических ситуациях, пересказывал их своим друзьям и тем удовлетворялся. Записывать не спешил, полагая, что времени впереди много. Его и в самом деле выпало достаточно, но не всякое оказалось пригодным для спокойного сочинительства. Мне кажется, что писать нечто эпическое можно только в эпическом состоянии духа, а оно у меня с конца шестидесятых годов и, по крайней мере, до середины восьмидесятых было не таковым. Ядерная сверхдержава объявила мне войну, пытаясь остановить, как говорится, мое перо. Когда в Союзе писателей меня учили уму-разуму, писатель Георгий Березко нервически взывал: «Войнович, прекратите писать вашего ужасного Чонкина». В КГБ меня настойчиво просили о том же, приведя более веские аргументы в виде отравленных сигарет.
Меня не посадили, но создали условия, способствовавшие больше сочинению не эпического полотна, а открытых писем то гневных, то язвительных, которыми я время от времени отбивался от нападавших на меня превосходящих сил противника. Я не оставлял своих попыток продолжения главного дела, но, раздраженный постоянными уколами и укусами своих врагов, все время сбивался на фельетонный стиль, на попытки карикатурно изобразить Брежнева или Андропова, хотя эти люди как характеры и прототипы возможных художественных образов никакого интереса не представляли. Они заслуживали именно только карикатуры и ничего больше, но роман-то я задумал не карикатурный.
Кстати сказать, я обозначил когда-то жанр сочинения как роман-анекдот, из чего некоторые критики сделали разнообразные выводы, но это обозначение было просто уловкой, намеком, что вещь-то несерьезная и нечего к ней особенно придираться.
Покинув пределы СССР, а потом вернувшись в него освобожденным от постоянного давления, которому подвергался долгие годы, я много раз пытался вернуться к прерванной работе, исписал несколько пачек бумаги и почти все написанное выбросил. Ничего у меня не получалось. И сюжет складывался вымученный, и фразы затертые, что меня ужасно мучило и удивляло. Я думал, как же это так, ведь еще недавно было же во мне что-то такое, что привлекало внимание читающей публики. И все-таки, продолжая свои усилия, я снова и снова с тупым упорством толкал свой камень в гору.
Некоторые мои читатели убеждали меня, что «Чонкин» и так хорош и продолжения не требует, но я, написав две первые книги, чувствовал, что не имею права умереть, не закончив третью. Мое состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, которая, выносив тройню, родила только двоих, а третий остался в ней на неопределенное время.
Был момент, когда мне вдруг совсем надоело «искусство ставить слово после слова» (Б. Ахмадулина), и я вообще бросил писать, сменив перо (точнее, компьютер) на кисть. Сорок лет подряд я хорошо ли, плохо ли, но писал что-нибудь практически каждый день. Никогда не испытывал недостатка в сюжетах и образах, а тут как отрезало. Ни образов, ни сюжетов. Текущая перед глазами жизнь не возбуждает потребности как-нибудь ее отразить. Рука не тянется к перу, перо к бумаге, и компьютер покрылся пылью. Потом я вернулся в литературу только частично: писал публицистику и мемуары. Они тоже, кстати, давались с трудом. А уж пытаясь сочинить хотя бы небольшой рассказ, и вовсе чувствовал полную беспомощность начинающего. Как будто никогда ничего не писал.