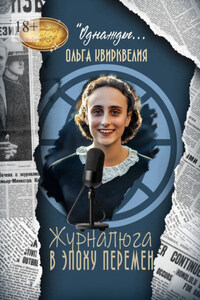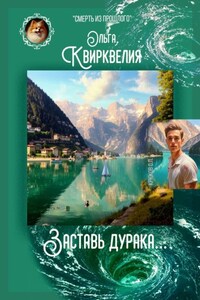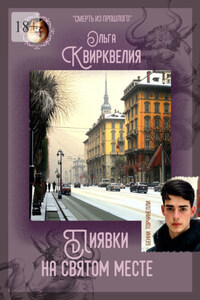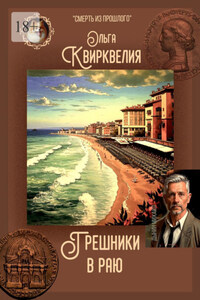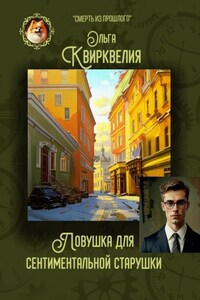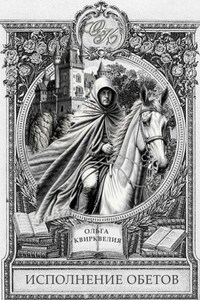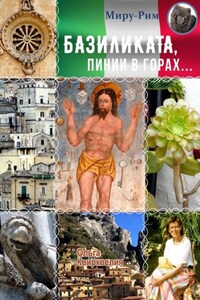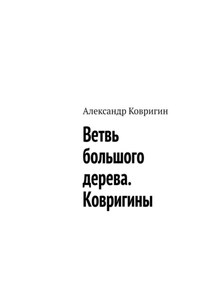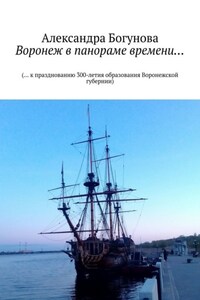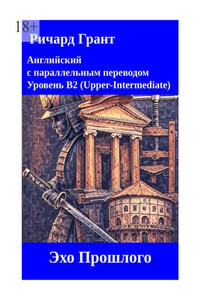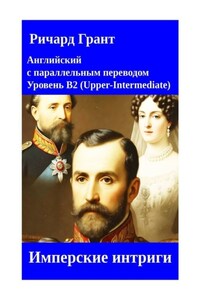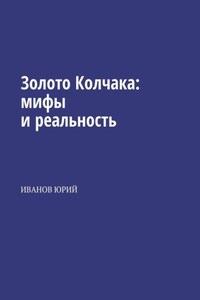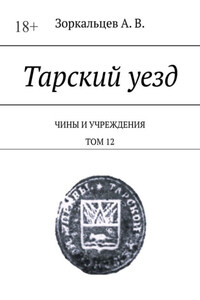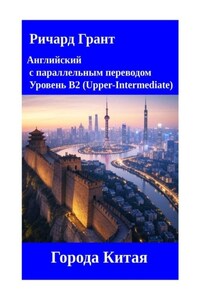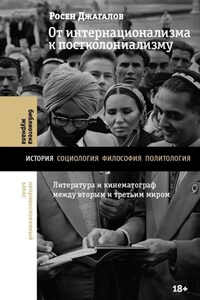Писать я начала очень рано. Первый свой опыт помню прекрасно: в пятом классе, в сентябре, нам задали написать сочинение «Как я провела лето». Я написала о поездке на море. Получилось, как мне казалось, неплохо, но почему-то в школу вызвали бабушку. О чем с ней говорил завуч, я не слышала, но вышла она из кабинета в каком-то странном настроении: огорченная и в то же время непривычно ласковая (бабушка была очень скупа на нежности, хотя любила меня безмерно). Было что-то еще в ее внимательном взгляде… Оказывается, моих учителей взволновала фраза в моем сочинении про то, что запах моря волновал меня как запах волос любимого… Педагоги взволновались: откуда я в 12 лет знаю запах волос любимого?! Или я просто списала этот текст из какой-то книги? Бабушка не стала меня расспрашивать и никаких бесед со мной проводить не стала, а очень много десятилетий спустя из ее мемуаров я узнала, что точно такая же история произошла с ней – в таком же возрасте и тоже с сочинением о каникулах на море…
Чуть позже наш класс стал «выпускать» ежемесячный поэтический сборник – тетрадка, в которой все желающие писали свои стихи. Я была в нем постоянным автором. Что именно я там писала, естественно, не помню, только отдельные фразы типа: «В нашем классе шел урок истории. Спать хотелось и писать стихи…». В старших классах мои стихи начали публиковать в местной газете. Мама начала мечтать о том, что я стану великим поэтом, и требовать, чтобы я поступила в Литературный институт. Эта идея мне совершенно не нравилась: я не представляла, как можно зарабатывать поэзией – когда кончились деньги, срочно выдавливать из своей души какие-то рифмы?.. Но для маминого успокоения и подала документы, прошла творческий конкурс, но экзамены сдала в МГУ – на факультеты исторический и вычислительной техники и математики. Мама, конечно, очень огорчилась, но потом решила, что МГУ – это тоже хорошо звучит…
Я продолжала изредка писать – теперь уже небольшие рассказы – и публиковаться в журналах типа «Знание – сила», «Юность», «Уральский следопыт» и прочие.
Но журналистика – это совсем другое.
Во-первых, журналист пишет о реальных событиях и людях, поэтому должен быть максимально точен.
Во-вторых, он часто – особенно в начале своей карьеры – пишет «по заказу», на тему, интересующую редакцию. Поэтому должен уметь увидеть интересное в скучном, необычное в повседневном.
В-третьих, пресса – мощное идеологическое оружие, журналист всегда должен помнить об этом и считаться с этим.
В-четвертых, он должен уметь общаться с самыми разными людьми – нравящимися и не очень, знаменитыми и обывателями, умными и примитивно мыслящими.
А я, выросшая до 12 лет вообще вне контактов с кем-либо, кроме родни и врачей, общаться не слишком любила. Но умела: благодаря своей семье.
Я уже писала в книге о моей бабушке по материнской линии – балерине, балетмейстере («Пируэты судьбы»), что детство и юность я провела между Москвой, где жили мои родители и семья отца, и Тбилиси, где жила мои бабушка и тетя, а потом и мой муж и его семья. И это были совершенно разные миры, полные известных людей – в совершенно разных сферах: в Тбилиси – театр, музыка, балет, архитектура. В Москве – дипломатия, медицина, история.
Моя Москва сильно отличалась от нынешней: она была дружелюбной, какой-то патриархальной, уютной. И она была относительно маленькой, с любой окраины можно было добраться до центра за полчаса, встретиться с друзьями после работы или учебы, погулять или посидеть в кафе и спокойно вернуться домой не слишком уставшей. Сегодня мне потребовалось бы для встречи с друзьями полтора часа дороги в одну сторону… Это была другая Москва. Конечно, во многом хуже современной, но намного менее разобщенной.