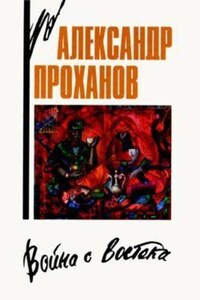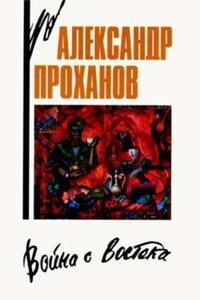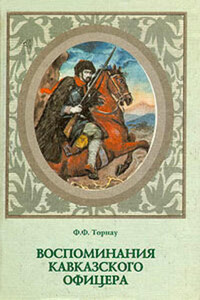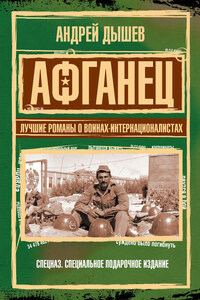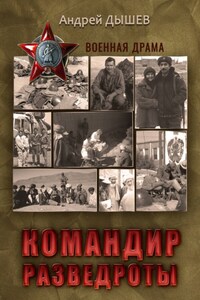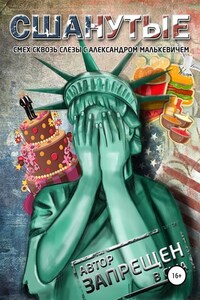Ночью город снова забросали «эрэсами». Прапорщик Кологривко спал и во сне чувствовал подлетающий снаряд. Видел искристую траекторию. Слышал гулкое, глубокое плюханье. Снаряд разрывался в глубине его сновидений, расталкивал рваным ударом разноцветные сны, которые снова смыкались, затягивали радужными наплывами черную дару удара. Сны толпились, мелькали в одной половине сознания, в той части головы, что была прижата к жесткой подушке. Другая, верхняя половина слушала взрывы.
В «зеленке», в путанице виноградников, в изломанных безлистных садах, ловкие стрелки ставили на треногу ракету. Отбегали, падали в мелкий сухой арык. Ракета на длинной метле улетала со свистом в ночь, над разрушенными кишлаками, над безлюдной дорогой, над притихшими придорожными заставами. Падала в город, среди пыльных площадей, мерцающих куполов, глинобитных дуканов. На мгновение в красном разрыве озарялись вывеска с размалеванной надписью, разукрашенный борт грузовика, оскаленная морда верблюда. И пока стрелки поправляли треногу, вынимали из ящика длинную, остроклювую ракету, наводили на туманный город, Кологривко видел свой сон.
Будто он плывет в теплой, зеленоватой реке среди глянцевитых листьев кувшинок. На берегу, на траве, разостланы влажные простыни. На зыбких мостках тетя Груня, их нянечка из детдома, шлепает, возит в воде белую наволочку. И он, плывущий, видит летнюю реку, отраженное стеклянное облако, зеленую гору со старым кирпичным детдомом, и кто-то незримый и любящий, может быть мать, смотрит на него из-за облака.
Он проснулся от сигнальной трубы. И с первым светом в глазах, отгоняя прочь сновидения, увидел свой автомат, прислоненный к изголовью кровати, гвоздь с брезентовым «лифчиком», набитым магазинами, зеленую фляжку на тумбочке. И уже гудел, надвигался вал солдатских сапог, крики команд за стеной.
Они стояли перед модулем штаба – длинным дощатым строением. Кологривко отворачивался от слепящего, колючего солнца, бьющего из-за лица командира. Лейтенант Молдованов, нетерпеливый, синеглазый, с горячим румянцем на безусом лице, жадно внимал командиру. Майор Грачев, сутулый, набрякший, с обвислыми усами над растресканной губой, молча слушал полковника, его неуверенную, раздраженную речь. Ждал, когда полковник сядет в уазик, умчит за шлагбаум в белую, пыльную степь, где туманилась колонна машин.
– Для вас, майор, это задание – последний шанс, я считаю! Вам просто повезло напоследок. Думаете, мне было приятно вас отстранять? Задерживать ваше представление на орден? Обещаю: хорошо сработаете – вернетесь в Союз с наградой. И батальон обратно получите! И остальные не пустыми вернутся!..
Кологривко слушал полковника с неясным, мучительным чувством, будто в его словах была малая, ускользавшая от понимания неточность. Командир заслонялся от какой-то близкой, им всем угрожавшей правды. Не желал ее проявления. Кутал, пеленал в неточные, раздражающие слова.
Мимо шла рота – серо-зеленая, плотно стиснутая колонна. Приблизилась к командиру. По окрику дрогнула, взнуздалась, с хрустом, громом переходя на строевой, окуталась солнечной пылью. Прохрустела, простучала мимо, обдавая запахом пота, ваксы, горячей растоптанной земли. Кологривко заметил близкое, под козырьком, лицо рядового Птенчикова, его маленький, облупленный носик. И рядом – сержант Варгин, его сильные, круто поднятые брови, могучий взмах руки. Отметил обоих в уходящей колонне.
– Вы их пошерстите немного в «зеленке» и – назад! Не ввязывайтесь! Пошерстите, постреляйте, может, установку подавите, может, на позицию наткнетесь и – обратно! Для видимости!.. А то обнаглели! Сегодня ночью сорок «эрэсок» упало! Губернатор звонит, умоляет: «Помогите!» Город гудит, дымит, люди бежать собираются!..