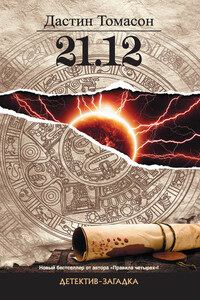Я родился дважды. Первый раз – в дощатой каморке, нависшей над черными водами Темзы, а второй – восемь лет спустя, на Рэтклифф-хайвей, когда попал в пасть к тигру и все началось по-настоящему.
Бермондси. Стоит произнести вслух – и люди нос воротят. И все-таки там был мой дом – самый первый из всех. Когда мы спали, под полом плескалась вода. Дверь выходила на канал; за дощатыми перилами в темной жиже то там, то тут вздувались серые пузыри. Если заглянуть между перекладинами, можно было рассмотреть, как внизу проплывают разные штуки. Жирный зеленый ил толстым слоем покрывал деревянные сваи.
Помню кривые улочки с ломаными изгибами и случайными закоулками, раскатанный колесами лошадиный навоз на мостовой, овечий помет: каждый день мимо нашего дома тянулись стада на кожевенный двор, откуда доносились потом рев и невыносимое мычание. Помню темные щербатые кирпичи дубильни и смоляные струи дождя. Красные когда-то кирпичи все почернели от копоти. Стоило дотронуться – и кончики пальцев тут же покрывались блестящим черным налетом. Из-под деревянного моста исходил тяжелый, неприятный дух; утром, по пути на работу, казалось, что вонь окутывает все тело.
Воздух над рекой был наполнен шумом и дождем. Ночами над мерцающей рябью разносились порой звуки матросских песен. Голоса казались мне дикими и темными, как сами стихии; звуки неведомых языков надрывались и пришептывали, мелодии взмывали вверх и падали вниз, точно в лестничные пролеты, – будто я сам находился где-то далеко, в чужих жарких краях.
Мне нравилось смотреть на реку с берега, но вблизи она оказывалась грязной и вонючей, и к босым ногам льнули тонкие красные черви, копошившиеся в вязкой жиже. Помню, как они извивались между пальцами.
Впрочем, мы и сами были не лучше.
Ползали по только что отстроенным канализационным туннелям, точно черви, – мальчики и девочки, тощие, с бледными серыми лицами, такого же цвета, как грязь, в которой мы плескались в этих темных, похожих на разинутые глотки туннелях, где воняло хуже, чем в аду. Стены там были покрыты коркой черного дерьма. В поисках мелочи и попытках набить карманы мы заматывали носы и рты носовыми платками, оставляя открытыми только глаза – те чесались и слезились. Иногда нас рвало. Ничего особенного – это как чихнуть или рыгнуть. А когда, жмурясь от света, мы выходили к берегу, нас ждало чудесное зрелище, диво-дивное: высокий и благородный трехмачтовый клипер с грузом чая из Индии заходил в лондонскую заводь, где сотни кораблей стояли на приколе, словно чистокровные скакуны на привязи; их чистили, подновляли, смолили и готовили к великому морскому испытанию.
Но карманы наши никогда не бывали полны. Помню, как меня тошнило, как выворачивало внутренности от голода. Это случалось по ночам, когда я лежал в постели.
С тех пор минули годы. В ту пору мать моя легко могла сойти за девочку – невысокая, крепкая, с мускулистыми плечами. Ходила она широким шагом, размахивая руками. Смешная. Спали мы вместе на низенькой кровати. Засыпая, мы часто пели в той комнатке над рекой – голос у мамы был красивый, слегка надтреснутый; но иногда являлся мужчина, и мне приходилось отправляться к соседям и спать на нижней половине большой свалявшейся перины, ближе к изножью, так что над головой у меня с обеих сторон елозила голыми пятками малышня, а по всему телу скакали блохи.