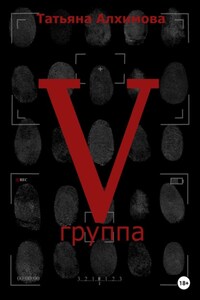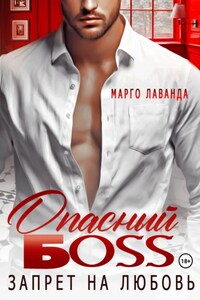Раньше каждый мой день начинался с шума: звонил будильник, в комнату заглядывал кто-то из родителей, дабы убедиться, что я действительно проснулась; на кухне закипал чайник, по тарелкам стучали ложки или вилки, в зависимости от маминого настроения. Если она просыпалась в благостном расположении духа, то готовила омлеты с начинкой или жарила быстрые блинчики, а если на неё нападала утренняя мрачность и меланхолия, то семья довольствовалась скромной овсяной кашей. Застилая постель, я слышала и другое: тихие разговоры, плеск льющейся воды в ванной, причём всегда было понятно, кто умывается – папа включал воду скромно, тонкой струйкой и что-то напевал себе под нос или просто разговаривал с отражением в зеркале; мама же выкручивала кран почти полностью, чтобы умыться поскорее, и тут же убегала к большому зеркалу в коридоре, чтобы уложить волосы и накраситься. Слышала я и шарканье старых бабушкиных тапочек по деревянному полу, суховатый голос с неразборчивой речью, щелчки в замочных скважинах. После появлялись и звуки с улицы из раскрытого окна – это значило, что бабушка добралась до кухни и ей снова кажется, что после готовки там душно. Тогда-то я и выходила из своей комнаты уже собранная и занимала свой пост в ванной, по дороге обязательно приветствуя того, кто попадался на пути, включая тихую черепаху, непременно застывшую посреди коридора удивляясь неминуемой утренней человеческой суете.
Теперь же, когда черепаха давно похоронена в маленькой коробке в дальнем углу загородного участка, о бабушке напоминает пожелтевшая фотография в массивной рамке, а родители появляются в городе не чаще пары раз в год, моё утро совсем другое. В нём есть всё, что и раньше, почти, – те же неживые звуки, только нет никаких голосов. Их заменяет музыка. Я включаю её тут же, сразу после звонка будильника. Мне нравится заполнять пространство вокруг этой нематериальной субстанцией, стоять перед зеркалом в ванной и открывать рот синхронно со словами, льющимися из колонок. Звук собственного голоса давно забылся.
Странно.
Хорошо представляется голос отца, зовущий меня к обеду, и шершавый шёпот мамы, угрюмо читающий бессмысленную книгу в больничной палате, даже бабушкины причитания о моих разбитых коленках звучат в голове так, будто бы не заперты в ней, а высыпались наружу. Поэтому музыка – спасает. Под неё я могу тихо грустить или веселиться, завтракать на скорую руку, или читать, растягивая удовольствие на весь долгий тёмный вечер. В ней – всё, чего мне иногда так не хватает: настоящей жизни, живого выражения чувств. Нет, даже не живого, а звукового. Хотелось бы, чтобы чувства и мысли звучали, а не пробегали символами на бумаге или жестами, сложенными из пальцев.
Я не могу говорить.
Давно.
И, возможно, это навсегда.
Тёмное, густое утро запоздало напомнило о том, что пора бы уже земле укрыться снегом в преддверии грядущей зимы. Конец ноября – самое мрачное время, глухое и тесное. Я с тоской зажгла свет в спальне, имитируя солнце, чтобы поскорее проснуться и ощутить хоть какую-нибудь бодрость в теле. Суббота. Законный выходной – вроде бы долгожданный, но совершенно пустой и непонятный.
Заиграла привычная музыка, наполняя моё скромное жилище звуками, и на душе сразу стало чуть легче. Пританцовывая, я добралась до ванной и добавила немного шума струёй тёплой чистой воды. Следом в прекрасную какофонию, заполняющую всю мою жизнь, вписался закипающий чайник и скворчащие на сковороде яйца.
Стоило только устроиться за столом с вилкой в руке, как в дверь настойчиво позвонили: трень, трень-трень-трень, трень. Наш позывной! В это утро меня решил навестить самый замечательный и добрый друг на свете – Сорин . Мы познакомились так давно, что вспоминать страшно. Старшая школа, колледж – всё это пройдено бок о бок. Он был первым моим настоящим другом и человеком, который решился сблизиться с той, которая ни слова не говорит. За эти годы у нас сложилась собственная система общения, слепленная из языка жестов, разных звуковых сигналов и выражений лиц, а ещё – музыки.