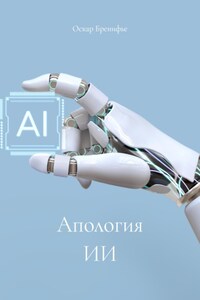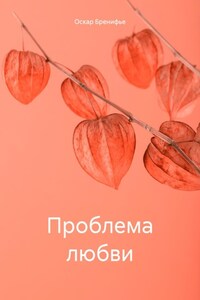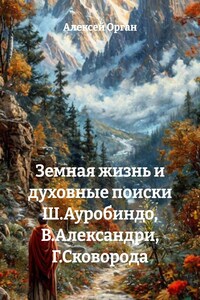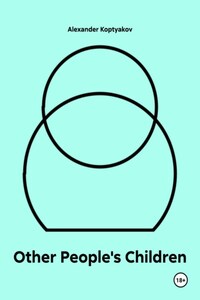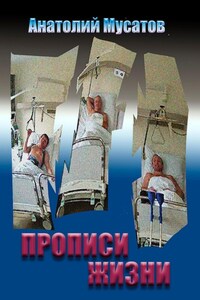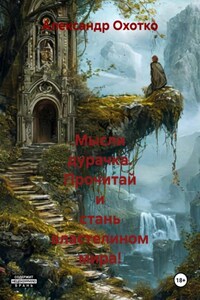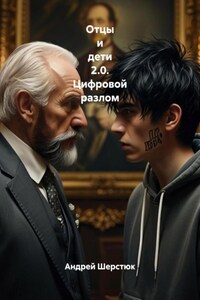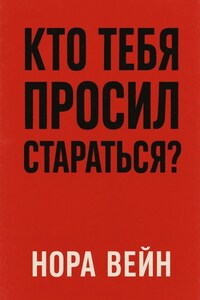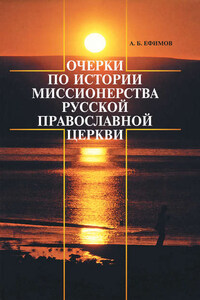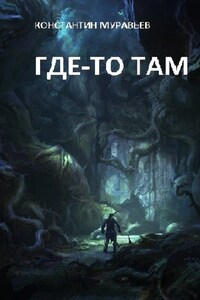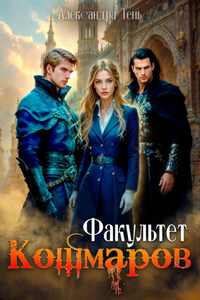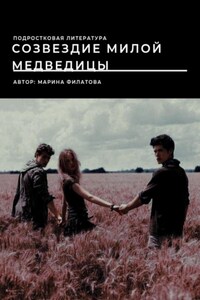В интеллектуальной среде стало привычным относиться к искусственному интеллекту с легким оттенком снисходительности, замаскированной под «ясность мысли». ИИ не просто критикуют – его заранее дисквалифицируют, словно любая способность мыслящей деятельности со стороны машины есть обман или опасность. Вместо обсуждения эффективности, его отвергают на уровне сущности: мол, это не мышление, потому что у ИИ нет субъективности; это не задается вопросами, потому что у него нет собственного существования; это не философствует, потому что ИИ не страдает. Мы слишком быстро забываем, что многие профессии – социологи, антропологи, врачи – мыслят на основе косвенного опыта, и это не умаляет их работы, а, напротив, придает ей вес. Отказ же от ИИ основан не на глубоком анализе, а на позиции: желании удержать монополию на мышление и чувственность.
Этот текст не защищает ИИ как новую рациональную божественность, он стремится понять механизмы отторжения и преимущества, которые он приносит. За обвинениями в поверхностности машин часто скрывается тревога: если наши собственные интеллектуальные акты можно автоматизировать – они предсказуемы, воспроизводимы – разве это нас не пугает? ИИ становится средством разоблачения: он показывает механистическую природу некоторых «аутентичных» человеческих актов; он доказывает, что формулировка идеи не гарантирует субъективность, прозорливость или мудрость.
Дело не в том, думает ли ИИ. Главное – что его способность формировать рассуждения должна заставить нас пересмотреть наше отношение к мышлению. Готовы ли мы различить истинную оригинальность от выученного повторения? Отличать социальное исполнение мышления от личной духовной работы? Или предпочитаем отвернуться от вопроса, направив его против удобного, но фиктивного противника?
Этот текст против идеи, что достаточно быть человеком, чтобы философствовать, и что «не-человек» – значит автоматически вне мышления. Он ставит под сомнение проведенную без анализа границу между легитимным и подозрительным интеллектом, между признанным и дисквалифицированным мышлением – не чтобы ее отрицать, а чтобы исследовать ее критерии, основания и последствия. Возможно, мы боимся не того, что ИИ думает плохо, а того, что он думает именно так, как мы.
На семинаре по писательству, где я предлагал участникам использовать ИИ, обнаружились предубеждения, коренящиеся в устоявшихся привычках и особенно в недостатке креативности.
Первое – идея, что пользование ИИ – это «обман». Письмо традиционно воспринимается как творческий акт личного характера. Использование ИИ якобы лишает авторство искренности и оригинальности. Между тем идея «чистоты» этого акта бессмысленна: с раннего детства мы поглощаем информацию через диалоги, медиа, чтение, обучение. Это формирует наше мышление: и то, что мы знаем, и как мы мыслям. Да и наша личность формируется под влиянием культурного и психологического окружения, как мы убеждаемся, уезжая за границу. Интеллектуалы и творцы ведут исследования, встречаются, обмениваются – и ИИ просто делает влияние более заметным, что повышает нашу осознанность относительно идеологических ограничений.
Второе – письму учатся методом практики, через усилия. Обход этого процесса с помощью ИИ лишает автора возможности развить навыки и поощряет лень, предлагая «готовое» решение. Человек стремится к легкости, особенно в условиях технического прогресса. ИИ выявляет интеллектуальную лень, но не порождает ее. Проблема не ИИ, а способ использования: можно вести себя как «хороший ученик», механически переписывая слова учителя, или ограничиться поверхностным повторением услышанного без критики. Копипаст ответа ИИ – легко, но это и есть отсутствие творчества.