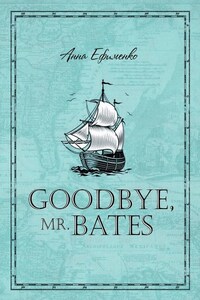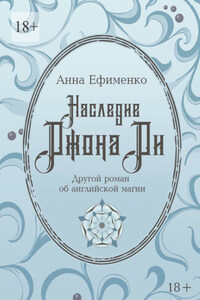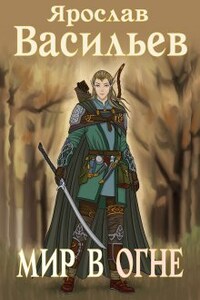«Господь Бог есть великий архитектор вселенной, первопричина всего, как говорил Фома Аквинский!» – частенько любил повторять наш аббат.
Я не знаю, кто и сколько заплатил Хорхе за мое вечное послушание, но во всей братии не было настоятелю более близкого человека, чем я, и не было во всей братии никого, чей постриг откладывался бы так же долго. Незаконнорожденный графов сынок, я готовился к жизни в миру, однако, дабы не мелькать перед глазами особо навязчиво, был отправлен в бенедиктинский монастырь, сохраняя лицо, но не титул, не стяжая богатств, но и не отягощаясь вечными обетами. Неподалеку в Грабене уныло и обособленно высился замок моего гипотетического родителя, и Хорхе, усадив меня к себе на плечи, частенько указывал старой пятнистой рукой на его красоты: на башни укрепленных внутренних дворов, на перекинутые через ров подъемные мосты, на надвратные сооружения, на донжон – грандиозную цитадель, взывая к мнимой родовой гордости (не обольщайтесь, в конце книги мне не достанется никаких наследств и сокровищ). Хорхе не был виноват в моей ублюдочной крови, наоборот, он всячески пестовал таланты своего воспитанника, делая упор на каллиграфию, перевод и иную работу с рукописями в скриптории.
Темной ночью на исходе лета посыльный из Грабена привез меня в монастырь на горе и вручил («в мешке, словно пленного турчонка», как пересказывал потом Хорхе) в руки аббата вместе с полным золота кошельком. С тех пор мой день рождения определили на август, «на последний львиный рык», согласно астрологическим меткам молодого светловолосого приора Эдварда, питавшего болезненную склонность к околомагическим учениям. Где-то там же, в последние летние деньки, меня окрестили Ансельмом да стали обучать чтению на Священном Писании, и, пока других мальчиков гоняли помогать келарю в кухнях, Хорхе брал меня с собой в Черные сады.
Эдем, возделываемый настоятелем, был отгорожен стеной чернильного винограда от прочих аббатских угодий на западной стороне; здесь росло колечками-змейками будущее вино наших евхаристий и повседневных трапез.
Вот я лежу на земле и глазею в мутное голубое эмалевое небо, пока Хорхе вяжет лозу, а вокруг повсюду цветут лилейные кусты. В тени черемухи можно следить за каждым движением настоятеля, я забираюсь туда, в потайное убежище белоцветных ветвей, не шелохнувшись, и жду, пока угловатая тень не позовет «Ансельмо!» на испанский лад, тут-то и выпрыгну прямо на Хорхе. Мы строим маленькие мельнички, вращающиеся от ветра, играем в «раз-два-три, побежали-ка с горы» и в коварные виноградные завитки. Я наблюдаю за муравьями и белками, листьями и облаками. После того, как лето переживет свой срединный огненный чад, можно будет наслаждаться результатами трудов.
Что такое дом Отца Нашего? – спрашиваю я, распластавшись на опавших белых лепестках, тыкая пальцем наверх. Гляди! – Хорхе указывает мне на фазанов, парящих под лазурным куполом, складывая свои ладони наподобие птичьих крыльев, взлетающих, взмахивающих своим опереньем, отрывающихся от земли и устремляющихся туда – выше всех облаков, в дом Отца Нашего. Хорхе любит небо больше всего на свете.
Келарь Петр приберег глиняные горшочки для ягод и фруктовых плодов, я собираю урожай Хорхе, а Петр держит амбарный ключ, шершавый, металлически-прогретый за день; солнце готово рухаться за равнины, за низины, за поля и луга, за их летние зеленые покрывала. Между повечерием и молитвой на сон грядущий я дремлю на крепком аббатовом плече, бывает, он относит меня к себе в келью, и где-то на задворках восприятия само понятие домашнего уюта навек пропечатывается у меня высокосводным простором, холодным камнем и тишиной.