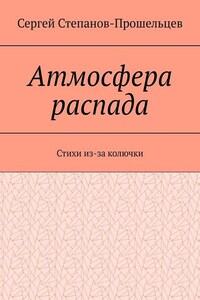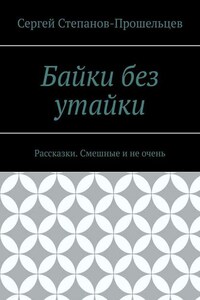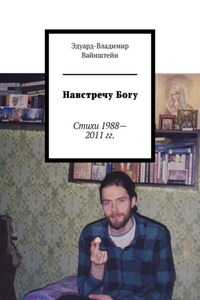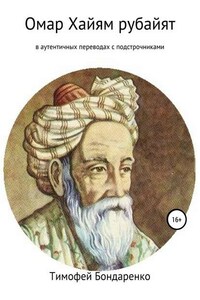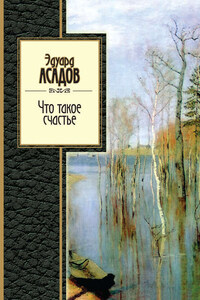Нет высшей свободы, чем эта свобода
* * *
Предзонник. Зона. Шмон. Встречает лагерь
колючкою и на ларьке замком.
Иду в промокшей, порванной телаге
в свою локалку – так велит Закон.
Одна мечта – упасть скорей на шконку,
чтоб позабыть, чтоб утопить во сне
сырой барак, похабную наколку
на сколиозной старческой спине,
овчарок лай и окрик конвоира…
Осточертела эта кутерьма!
Меня мутит, как будто от чифира,
от этой жизни, серой, как зима.
Но даже здесь, среди людского сора,
нельзя простить себе малейший сбой,
чтоб даже в крайней степени позора
быть человеком, быть самим собой.
И зубы сжав, пусть все вокруг немило,
шагать в пургу, в пустую трату дней,
чтоб свято верить в справедливость мира
и полюбить его еще сильней.
Чтоб, словно Феникс сказочный, из пепла
сумел я встать, ещё совсем не стар.
Чтоб эта вера ширилась и крепла,
как искра, превращённая в пожар.
* * *
За бетонной стеной, за решёткой стальной
снова слышится трель милицейской свирели.
Хулиганов становится больше весной,
и штакетник трещит от напора сирени.
Жизнь моя, словно эта хмельная весна,
отшумела, мелькнув только призраком рая.
И удача —обманчива, точно блесна, —
где-то рядом была, не меняя ободряя.
Бьет в намордник окна шалых листьев пурга,
бесконвойные ветры шумят без призора.
И щербинка луны – как улыбка врага,
и звезда в небесах – как свидетель позора.
.
* * *
Город гудел, как улей, и жизнь у меня была
стремительнее, чем пуля, летящая из ствола.
Затрещин, обид и премий отмерив, как и другим,
меня захлестнуло время арканом своим тугим.
Не думал над каждым шагом, что будет – я не гадал…
Теперь вот коплю, как скряга, потерянные года.
Бездельем бездумных буден томясь, я встаю чуть свет.
И будущего не будет, и прошлого тоже нет.
Ни цели, ни перспективы, лишь мухи у потолка.
И время течет лениво,
как медленная река.
* * *
Нет высшей свободы, чем эта свобода,
когда ты свободен от власти и денег,
когда не пугает любая погода,
когда ты, как ветер, такой же бездельник;
когда ты срываешься с крыши, как птица —
ни отчего крова, ни признака боли, —
когда ничего тебе ночью не снится
и нет тебе дела, что будет с тобою;
когда за окном облаков белоснежность
и грустно от их торопливого бега,
как будто последнюю чувствуешь нежность —
прощальную нежность апрельского снега.
* * *
Сколько выпало невзгод, но такой беды не снилось.
Сутки тянутся, как год, ночь – как будто Божья милость,
что дарована не в прок, как и ранняя усталость.
Оглушил тяжёлый рок той судьбы, что мне досталась.
Что теперь? Одна лишь мгла. Житель я другого мира:
ни забот и ни угла – жизнь, как линия пунктира.
Исправлять – напрасный труд. Ну, хотя бы не сегодня.
И опять все струны рвут музыканты Преисподней.
Мы – зэки. Мы — каждый сам по себе
* * *
Пахнет с воли солянкой – тошно.
Тащат с рынка морковь, картошку,
из авосек точит шпинат.
Здесь, как раньше, с харчами тяжко:
заблудившуюся дворняжку,
втихаря отварив, едят.
Нынче — праздник. Потом — по-новой
миска каши в обед перловой
и баланда – одна вода,
никаких тут куриных грудок,
и тоскует пустой желудок,
как узбек на бирже труда.
Где-то жарят картошку с салом…
Лом хватаю, чтоб легче стало,
бью по камню — таков мой крест.
Нет лекарств эффективней лома!
…Выйдет срок мой – полгастронома
съем, наверно, в один присест.
* * *
У этих тёмных окон я
коплю тоску галимую.
Прощай, моя далекая,
прощай, моя любимая!
Я заперт в тесной камере,
стою в проходе узеньком.
Оркестр играет камерный
трагическую музыку.
Она такая страшная,
она такая душная —
как реквием по нашему
с тобою равнодушию.
* * *
Я не станцию — я государство проспал,