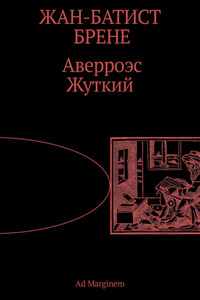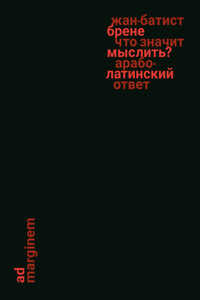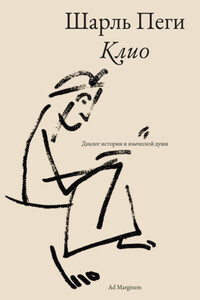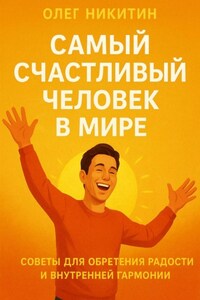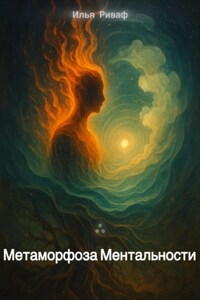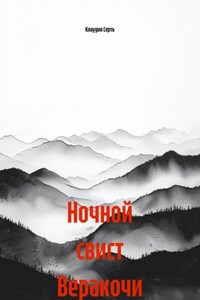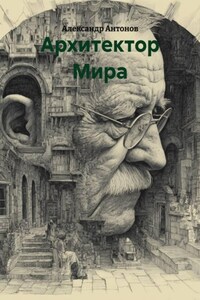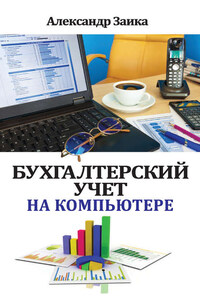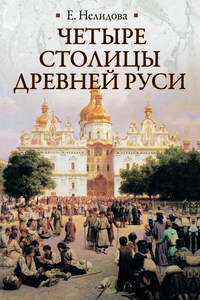К читателю
(пер. А. Шестакова)
…в атеизме есть автономное ego, но это ego, по необходимости конечное и осознающее свою конечность (смертное). В теизме же (ego) cogito возводится к некоему (id) cogitat (и – по сути – к некоему cogitor); так, я могу быть собой и мыслить себя как себя, только если я причастен бытию и мышлению некоего Я, которым сам не являюсь; ego есть то, что оно есть, – ego cogitans – не само по себе, а через (или в) Я, которое им не является; поскольку это Я по определению бесконечно, ego в теизме причастно бесконечности и может представлять себя таковым (бессмертным), но это ego не автономно.
Александр Кожев. Заметка о Гегеле и Хайдеггере
Зачем читать книгу «Аверроэс Жуткий» в России?
Чем книга, посвященная средневековому мыслителю Аверроэсу, представителю давно минувшей арабо-мусульманской культуры, может быть интересна русскоязычному читателю? И – не столь очевидный вопрос – какую пользу может принести погружение в критическую (мягко говоря) рецепцию аверроизма «латинской» и, шире, западной мыслью? Словом, как эта борьба, которую вновь и вновь подпитывали ненависть к мусульманскому философу и вытеснение его идей, которым не было конца в значительной части Европы, может касаться носителей русской культуры?
Разумеется, любой человек (и русскоязычный читатель не меньше любого другого) может испытывать желание расширить свой культурный кругозор, в частности в области философии. И с этой точки зрения книга Жан-Батиста Брене является подлинной жемчужиной: она не только впечатляет эрудицией, не только на многое проливает свет, но еще и читается как роман, даже как детектив, в котором «подозреваемый» – Аверроэс – оказывается обвинен в тяжком преступлении, ибо он якобы низводит человека ниже животного, к состоянию «стены». В чем ужас философии Аверроэса? В том, что она-де лишает человека самого драгоценного, что у него есть – его разумности, – и оставляет ее Богу; она, говоря метафорически, «выкалывает глаза» человеку, повергает его в безумие, отворяет его душу дьяволу и дочиста растворяет его в некоем cogitatur, где он оказывается никем и его Я теряет автономность.
Если так, то любой думающий человек должен заинтересоваться этой книгой – ведь она говорит не просто о латинских или арабских авторах, она говорит с человеком о человеке, о его роли, о его идентичности, о его фантазиях и страхах, о его отношении к Богу. Возможно. Но для русскоязычного читателя в ней есть еще одно важное достоинство. Должно быть, его не слишком удивит эта ненависть Запада к Аверроэсу, эта охота на него, это стремление представить его как врага, наводящего ужас на «леса Аравии». Возможно, он угадает за этой яростью «роковой спор Востока и Запада», в который вовлечен и сам. Не исключено, что таков главный побудительный мотив к тому, чтобы читать эту книгу в России, держа в уме мучительный вопрос: «С какой стороны в этой истории я?», а за ним и другой, отнюдь не лишенный оснований: «Не считает ли Запад и нас, русских, страшными „двойниками“ из тех, о которых в ней говорится?»
И наконец, нельзя не отметить более конкретное обстоятельство, которое наверняка удивит любого знатока русской религиозной философии Серебряного века. Дело в том, что труды Аверроэса, обозначившие вершину одного из направлений средневековой арабо-мусульманской мысли, явственно перекликаются с идеями того, кого можно считать отцом русской религиозной философии, – Владимира Соловьёва.
Вот что книга Жан-Батиста Брене может поведать русскому читателю о русской философии. Родство двух мыслителей тем более поразительно, что Соловьёв, насколько нам известно, о нем не подозревал. Иначе говоря, имело место не воспринятое им внешнее влияние, а самое что ни на есть подлинное родство, настолько глубокое, что в конце жизни Соловьёв пришел к тем самым идеям, о которых идет речь в этой книге. Судите сами.