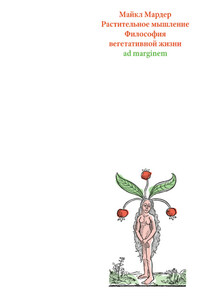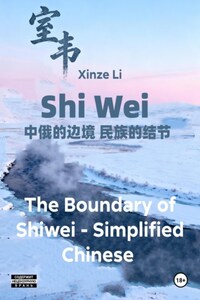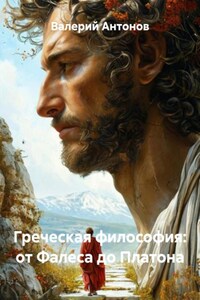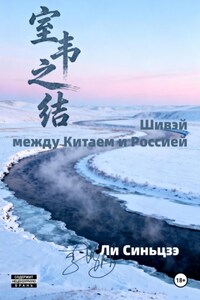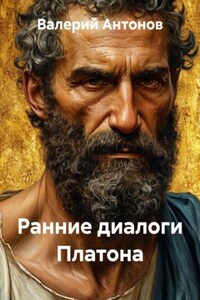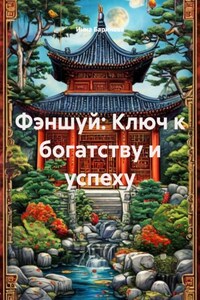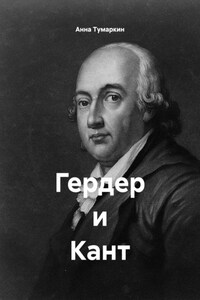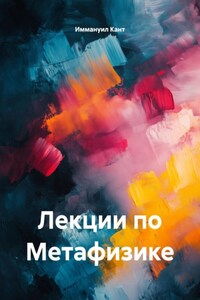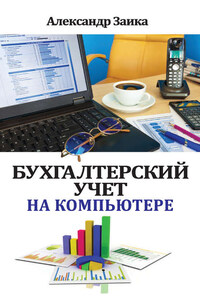Мало кто из интеллектуальных титанов Запада так открыто заявлял о своей любви к растениям, как Жан-Жак Руссо. Погружаясь в тщательное изучение ботаники, которое преодолело ограниченные рамки эмпирической науки и стало для него образцом l’art divin, философ надеялся вернуться к нашим природным корням, скрытым из виду извращениями цивилизации. Александра Кук точно определила ботанические размышления и деятельность Руссо, назвав их «целительной наукой», излечением современной души, очищением от разрушительных страстей и возвращением к простоте, спокойствию и истине природы[1].
В свете этой возвышенной ботаники сама философия изменяется до неузнаваемости: philo-sophia, любовь к мудрости, возрождается к жизни с помощью phyto-philia, любви к растениям[2]. Слабый рост человеческой души получает живой стимул от цветения растений, который побуждает мысль, так же склонную к метаморфозам, как одуванчики, описанные Руссо в одном из ботанических писем к своей кузине, госпоже Делессер, в 1793 году[3].
Уже для Сократа забота о душе имела преобладающее философское значение. Целью философии было спасение души от развращенности и упадка через знакомство с ее бессмертным источником в царстве идей. Бо́льшая часть последовавшей за этим западной интеллектуальной истории приняла, не подвергая сомнению, этот сократовский рецепт спасения: мысль должна вернуться к своим неизменным логическим, метафизическим и онтологическим основам, чтобы существовать, продолжительно отдыхая от превратностей повседневной реальности. Утопическое, несуществующее место, предназначенное для спасения, свободное от воздействия времени, предельно удалено от растений, жизнь которых зависит от постоянных изменений и окружающей среды. Возможно, поэтому большинство философов не фитофилы, напротив, они рассматривают произрастание и его неизбежного двойника, увядание, как проклятие истинного философствования.
Несмотря на широко распространенную концептуальную аллергию на растительную жизнь – фитофобию, – философская традиция на Западе не могла совсем обойти проблему растений. Философы отводили им подчиненное место в своих системах, используя прорастание, рост, цветение, плодоношение, размножение и гниение как иллюстрации к абстрактным концепциям, упоминая их мимоходом как фон для своих диалогов, писем и других произведений; употребляя в изысканных аллегориях и рекомендуя соответствующее медицинское, диетическое и эстетическое применение отдельных растений.
Бо́льшая часть этих соприкосновений с флорой была быстротечна и маргинальна, словно растения не заслуживают таких же сосредоточенных размышлений и теоретического внимания, какие полагаются другим существам. Но наше изложение философских идей – в лучшем случае фрагментарное в отношении растений – предназначено не для того, чтобы повторять неудачи прошлого. Книга