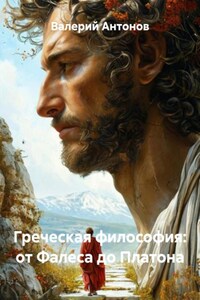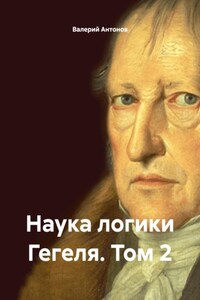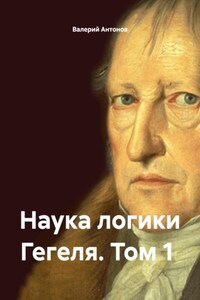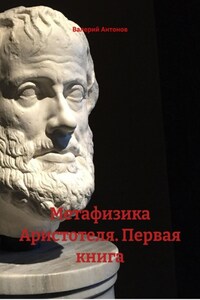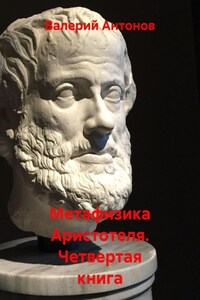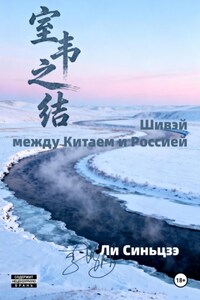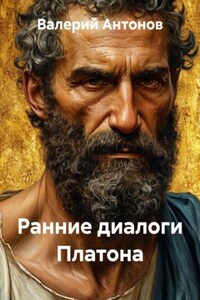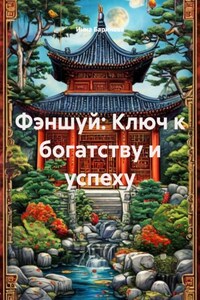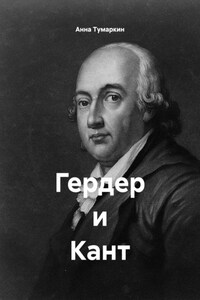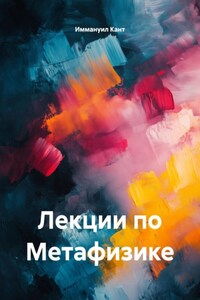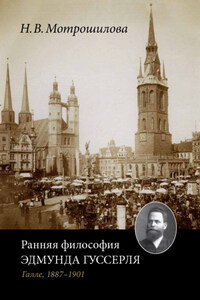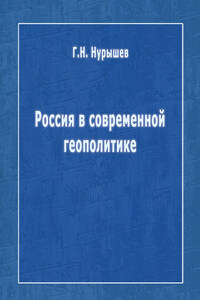Введение: О возможности историко-философского исследования.
I. Невозможность «истории философии» и природа понимания.
Создание исчерпывающей «истории философии» – задача, по всей видимости, трансцендентально невыполнимая. Причина кроется не в недостатке источников, а в самой сути философского творчества как личностного акта вопрошания, который, подобно произведению искусства, укоренен в уникальном опыте мыслителя. Сам Платон в «Федре» сомневался, что подлинная философская истина, рождающаяся в «живой беседе» (λόγον ζῶντα), может быть адекватно объективирована в письме (γράμματα). Для него философия – это не передача информации, а событие, в котором «одна душа зажигает другую».
Обращаясь к философии прошлого, мы оказываемся в тройном плену:
1. Плен текста: Мы зависим от письменных источников, которые по большей части фрагментарны, не всегда достоверны и зачастую дошли до нас через призму интерпретаций последующих доксографов.
2. Плен языка: Мы читаем тексты на языке, семантические поля и интуиции которого мы понимаем лишь отчасти, будучи отчуждены от живого культурно-исторического контекста, их породившего.
3. Плен дистанции: Наше собственное мышление сформировано последующими 2500 лет истории понятий, что создает неизбежную анахронистическую проекцию.
Следовательно, ценность труда историка философии определяется не его способностью к хроникальному изложению, а его герменевтической способностью к диалогу – к воссозданию того самого «платоновского» контакта душ через толщу времени.
В какой-то мере это возможно. Подобно тому как религиозная вера способна преодолевать барьеры пространства и времени в акте непосредственного постижения (apprehension), так и исследователь, погружающийся в мир античного мыслителя через длительное и empathetiческое изучение, может обрести внутреннюю убежденность в адекватности своей интерпретации. Однако эта убежденность, как и вера, – вещь сугубо личная и не поддающаяся полной объективации и передаче. Реконструкция прошлого валидна, в первую очередь, для самого историка как результат его личного герменевтического опыта.
В этом нет ничего мистического. Всякое понимание, как показал Х.-Г. Гадамер, устроено аналогичным образом – как «слияние горизонтов» интерпретатора и текста. В случае филологической и историко-философской интерпретации это означает, что ученый, годами живущий в духовном созвучии с древними авторами, приходит к интуитивно ясному выводу, логические и текстологические основания которого можно представить лишь как внешние следы (Spuren) внутреннего прозрения. Любая подборка цитат неполна, а их убедительность зависит от целостного, часто неартикулируемого контекста. Поэтому «доказательства» не производят одинакового эффекта на разные умы. Филологическое исследование, таким образом, требует от читателя не только интеллектуальных усилий, но и акта интеллектуальной доверчивости (fides), аналогичного вере. Готовые «истории философии» зачастую не столько помогают, сколько мешают, создавая дополнительную преграду догматизированных схем между нами и живой оригинальной мыслью.
Достижимые цели: подготовка почвы для понимания.
Хотя написание истинной «истории философии» невозможно, существует ряд более скромных, но достижимых задач, выполнение которых готовит почву для непосредственного прозрения.
1. Реконструкция внешнего контекста: Мы можем с высокой точностью установить ряд внешних обстоятельств: историческую эпоху, социально-политическую среду, культурные влияния. Хотя эти факторы никогда не объяснят философа целиком (риск «генетической ошибки»), знание о них позволяет верно понять направление и проблематику его мысли. Ключевым является прослеживание интеллектуальных связей – знакомства с предшественниками и современниками.