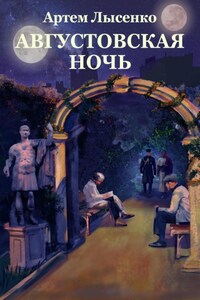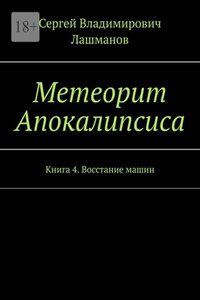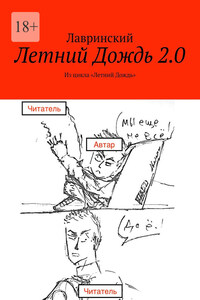Моему сыну Максиму,
который обязательно станет умнее меня,
если приложит к тому старания…
К О Н С Т А Н Т И Н
1.
– Fratres. Patres matresque. Concives! Cum dolore cordis et maxima aestuatione declaro de ultima situatione nostrae amabilis Patriae…
Уже сам факт того, что Август произносил свою речь не на интерлингве, а на старинном языке, который ведёт свою историю с незапамятных времён и считается истинно языком древних и ныне понимаем не всеми, свидетельствовал о важности события и говорил о том, что монаршая речь предвещала перемены в жизни государства. В последний раз, без малого шестьдесят лет назад, на этом языке было сделано обращение перед сменой власти, и тогда это повлекло за собой Большую Смуту. Уже по интонации, по паузам между словами можно было судить, что и ныне добра эта речь не принесёт.
В своё время я не уделил должного внимания изучению этого языка в Академии, но общий смысл речи от меня, всё же, не смог ускользнуть. Те из присутствующих, кто знал этот язык лучше меня, будь то сенатор или чиновник, проявляли самые различные эмоции: разной степени смятение, ошеломление, напряжённое спокойствие.
Речь Отца Отечества транслировалась на всё Государство с небольшой задержкой, необходимой для цензурирования на местах, и, хотя рядовые граждане её не понимали, можно было бы себе представить, что сейчас творилось в провинциях: от слова к слову, от призыва к призыву.
А призыв был однозначный: война. Война, к которой надо готовиться, консолидировав все ресурсы и усилия. Война, которая вновь принесёт смерть нашим гражданам и разрушение нашим Доминионам. Война – ещё одна в череде потрясений, от которых за последний век так устало человечество. Прошло немногим больше полувека, когда смена власти, казалось бы, принесла долгожданный мир, но снова звучит полная трагизма речь Августа.
…О причинах войны, правда, было сказано весьма немного и витиевато, что оставляло почву для домыслов. И от упоминания конкретных врагов Август довольно ловко уходил обтекаемыми речевыми оборотами вроде: «Они», «Наши недруги», «Те, кто пытается нарушить наш порядок» и прочее. Но кто это был: внутренний, внешний враг? Люди или иноземцы?
Как бы то ни было, от самой мысли о войне перехватывало дыхание, а скованный первородным страхом разум терял возможность трезво соображать. В ту пору я был молод и не умел отыскивать здравое зерно в любой ситуации, я был неопытен и наивен и хотел хоть у кого-то найти на лице что-нибудь вроде сплава беззаботности и уверенности.
Признаться, я, словно тепличный цветок, вырос в мире, окружённом спокойствием и достатком. Проведя всю жизнь на Августе Приме, я не знал жизни на окраине, на рубежах борьбы с варварством и упадком культуры, я видел лишь блеск и величие Метрополии в самых масштабных и, возможно, гипертрофированных её воплощениях, а теперь это всё казалось таким шатким и зыбким, и давал понять это сам Август.
Я ждал конца выступления монарха, который вот уже предвещал общий тон речи, и с волнением оглядывал огромный тёмный зал в форме амфитеатра, ища ложу с моим покровителем – старым другом и соратником отца – советником Лицинием Лицинианом, которому через четверть часа, а соответственно и мне, как его помощнику, назначена аудиенция у Августа.
С последними словами правителя камеры всех каналов сфокусировались на его лице: серьёзном, но мрачном лишь в меру, со взглядом, говорящим о твёрдой решимости и вере в благополучное разрешение событий. Поведётся ли на это просвещённый народ, сказать трудно, на массу обывателей это несомненно произведёт должный эффект. И это – главное. Собственно, далеко ходить не надо – я тоже был под впечатлением и верил в нашу тысячелетнюю непобедимость.