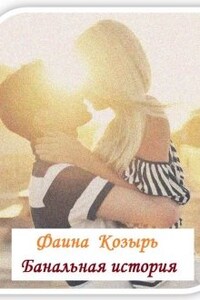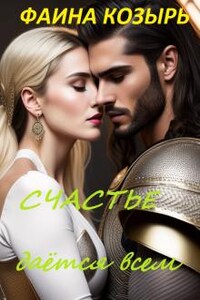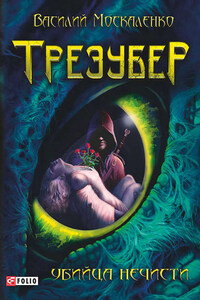В тот год Олька, благополучно
окончив школу, пошла на заочку в нацтехноложку на факультет
промышленного дизайна, а заодно, одним днём, счастливо устроилась
на полставки «девочкой подай – принеси» в новую, небольшую, но, по
отзывам, стабильно работающую фирму под странным названием
«ГродинКа». На собеседовании, куда по случаю заглянул генеральный
директор этой фирмы, облапив масляным взглядом сочную Олькину
фигурку с солидным декольте, она со всей серьезностью заявила, что
готова пахать на ниве капиталистического труда без сна и отдыха, но
только до тех пор, пока ей, как представителю рабоче-крестьянского
народа, будет выказано человеческое уважение в виде приличной
зарплаты и отсутствия всяких домогательств сексуального и около
сексуального характера.
На вопрос явно развеселившегося
молодого зама с самыми красивыми синими глазами, которые Олька
когда–либо видела в своей жизни, от кого юное дарование ждёт
сексуального подтекста, она ничего не ответила, лишь
многозначительно повернулась в сторону застывшего генерального и
тяжело выдохнула, поджав нежный розовый рот. Синеглазый зам
расплылся понимающей голливудской улыбкой, а генеральный, полыхнув
краской, неловко удалился, буркнув на прощание, что, все вакансии
уже заняты.
Но Ольку всё-таки взяли. Хотя новый
начальник, которого звали Роман Владимирович, долго веселился, не
скрываясь. Этот холёный буржуа подвел Ольку к секретарю и, скалясь,
попросил:
- Ириш, оформи– ка мне эту
очаровательную маргиналку.
Олька тогда только икнула. Она не
поняла, похвалили её или мягко приземлили. Но молодой зам
безмятежно сиял, окидывая её взглядом ироничным, но без всяких там
глупостей. Не обидно, в общем. И Олька решила, что надо
оформляться. И улыбалась, идя домой, вспоминая синеокого зама лет
двадцати семи, подмигнувшего ей на прощание. Эх!
А после засадила палисадник
сортовыми астрами и Агератумом невероятного голубого цвета.
И вот теперь, отчего – то сказочно
счастливая, она сидела в своём палисаднике среди сортовых крупных
цветов и слушала из старенького приёмника новую зажигательную
песню, негромко подпевая:
- Красивая любовь,
Но её не перепишешь сначала,
Север и Восток,
Мы с тобой далеки, как снег и
пламя…
Из окошка первого этажа высунулся
Тимоха:
- Лёля, а холодильнике только суп, -
заявил он обиженно и шмыгнул носом, явно и привычно ожидая, что
сестра сорвётся с места резко и сразу. Но та словно не слышала,
закрыв глаза и напевая.
- Лёль! – уже громче, но снова
жалостливо заныл стервец. - Нууу, только су-у -уп! Лё-о-оль!
Завирко вздохнула и даже уже
потянулась туловищем вперед, открывая глаза, как резкий голос
соседки с пятого этажа, девки высокомерной и, по Олькиным меркам,
вполне себе обеспеченной и самостоятельной, прервал всякое её
движение.
- Давай, давай, мать многодетная!
Шагай кормить своих оборвышей, а то больше некому! – и резкие,
вбивающие в асфальт звуки высоких каблуков застучали по вискам.
Завирко поморщилась:
- Шагай отсюдова, Нин! – сказала она
медленно, с оттяжкой.- Сейчас ведь встану… Сама знаешь, у меня рука
тяжёлая…
- Ой, ой! – не испугалась соседка. –
Бегу и падаю.
И фыркнув, юркнула в подъезд, на
прощание хлопнув железной дверью посильней. Бах! Олька расстроенно
открыла глаза. Чудесное настроение улетучилось.
- Вот падаль! И что ей нужно!
Завирко поднялась с маленькой
лавочки, отряхнула джинсы, выключила приёмник и подала его в
форточку помрачневшему брату.
- Я ей дверь подожгу, - свел брови
малолетний бандит.
- Я тебе подожгу! – рявкнула Олька
на брата.
- А что она?! - крикнул тот
расстроенно.
- У неё со мной тёрки, Тимош, вот
она и злобствует. Не обращай внимания! Макароны с сосисками
будешь?
Брат радостно закивал, вылез назад,
чуть не свернув фрамугу, и побежал ставить чайник на газовую плиту.
А Олька тем временем неторопливо вышла из палисадника и прикрыла
маленькой цепочкой импровизированную низкую дверь из остатков
заводской сетки. Девушка замешкалась немного, как вдруг голос
мужской, приятный, позвал её аккуратно и невероятно вежливо, как
никто и никогда не говорил в её окружении.