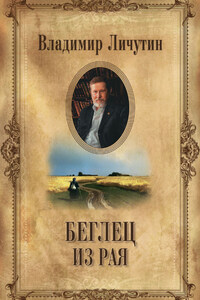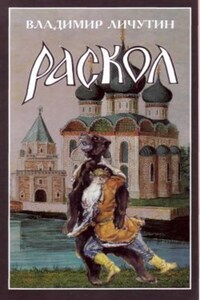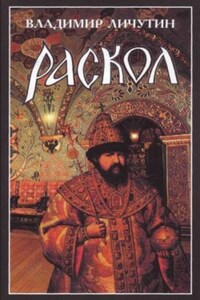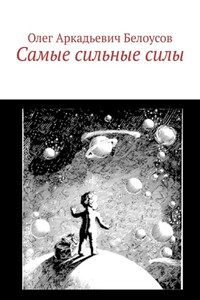Наверное, в каждом из нас, как в плотно запертом срубце, сидит медведь и ждет своего часа; но стоит лишь дать слабину, приотпахнуть кованую дверцу, приотпустить цепи, тут и заломает черт лохматый, подомнет под себя божью душу, выпустит дух вон, – столько и нажился. Но кто пасет его, братцы, до времени, ярого и немилостивого? Кто сторожит в каждую минуту неусыпно, не дает поноровки, не попускает на волю, не повязывает сердитого дядьку невидимыми надежными постромками? Как бы разглядеть тот таинственный облик сердечного стража, удостовериться в его незыблемой силе, чтобы, укрепясь в духе, неспешно брести до края лет, не боясь смуты? Где обрести незамутненную ровность жизни, чтобы не расплескать ее живую благодатную водицу по пустякам, чтобы после не расплакаться, жалея себя, несчастную сиротину. А то ведь, будто по павнам, по болотным чарусам, провожаемый девкой-марухою, правишь свой нерадостный путь с кочки на кочку, боясь угодить в провальные мшарные окна, коварно призадернутые зеленой тончайшей паволокой, скачешь по краю черного, блескучего, будто камень-аспид, бездонного озера, дышащего гибельным тленом, похожего на зловещий проран, вход в аидовы теснины, при виде которого смертно сжимается ваша душа, хотя бы и была втиснута эта дегтярная вода в немеркнущие солнечные зазывные ризы из выспевшей рудо-желтой морошки. А тут еще вечный бессонный медведь «шеволится» в груди, притягивает голову долу, отымает взор от пространных небес, где вздымаются ледяные горы с шапками из раскаленных угольев. Ну как тут не оступиться-то, братцы мои, как не воззвать с тоскою: «Господи, помоги и помилуй!..» И вот нынче я убил человека.
По правде сказать, я давно этого хотел, но не мог сыскать верных путей спасения, и это меня держало: как бы ни изворачивался мои гибкий ум, каких бы скидок и тайных троп ни изобретал, в какие бы схороны ни укрывал, но все сводилось к печальному концу: хитрые узелки распутывались, мудреные петельки развязывались, ко мне в хижу являлся государственный человек с наганом, хомутал в стальные наручники и тащил в каталажку; на этом моя голова замирала, наполнялась стужею и переставала работать.
Обнаружилось, что вся огромная родная земля с ее непролазными глухими уремами и таежными распадками, с горными теснинами и охотничьими ухожьями за сотни поприщ от человечьего жилья отказывалась меня укрывать; наконец-то Правда Закона натуго запеленала страну неусыпным надзором, лишила народ воли и даже крохотных мечтаний скрыться от власти. Я смутно догадывался, что вместе с неотвратимостью наказания, о которой так хлопочут негодяи и сильные мира сего, похитившие власть, я невольно лишился самого главного, что хотя бы в наивных мыслях тешило русского человека, которому тайно всегда хотелось взбунтоваться, выйти из подчинения, насладиться яростью. Ибо всякий бунт есть мщение; и хотя он не обходится без крови, в нем есть некий смысл, освященный Богом. Я никак не мог понять, что когда человек помышляет убить другого, забрать у него жизнь, дарованную Господом, он не боится никакого суда: ни земного, ни Небесного, а значит, не думает о спасении. Это происходит сразу, неожиданно, как настигает всякая напасть, словно в опойном сне, шало, опрометчиво, безрассудно, с неведомым прежде сердечным жаром в груди, как бы там вдруг всякое жалостное чувство выдуло ознобным ветром и хмельным просверком в голове.
...Так со мною и случилось.
Был день поминовения усопших на Петровщину. На задах моей избы маячат кладбищенские ворота, и Жабки вроде бы намерились за один мах перекочевать сюда, чтобы отгоревать разом и усопнуть; жиденькая струйка старушечек долго сочилась в издрябшие серые врата, неся с собою узелки и бидончики, и уже никто от могилок не ворачивался домой. Из окна мне виден был окраек деревни, густо закиданный травяной дурниною; сквозь пшеничные султаны и просяные метелки едва просвечивали низкие, в три окна, изобки, тоже с охотою утекающие в землю. Все сущее дождалось наконец-то зова архангеловой трубы и, взяв с собою погребальные скромные пожитки, охотно пустилось в последний путь.