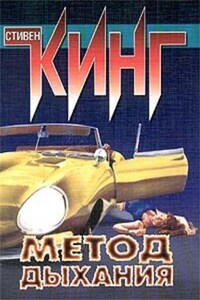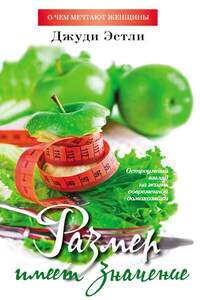В то последнее лето кухня насквозь пропахла всевозможными маринадами, анисовым семенем и ягодами можжевельника. Арбузное варенье, лавандовое желе, засахаренный фенхель – все это, уложенное в банки, уже стояло на полках в кладовой. А сосуды с будущими пикулями из манго и лука – он готовил это по старой привычке, оставшейся со времен жизни в Лондоне, – временно спустили в винный погреб, чтобы овощи хорошенько промариновались. На кухонном столе стояли большие миски с сотами, истекая медом и ожидая того дня, когда из оставшегося воска выплавят свечи или, смешав его с оливковым маслом, под прессом превратят в мыло. Летние грозы были упрятаны в банки со сливовым джемом. Воспоминания просачивались сквозь сосновые доски пола. Слезы превращались в пот.
Но Эскофье ничего этого не замечал. Он был слишком занят – писал мемуары.
В Монте-Карло вновь царствовало изобилие; царствовало оно, как это ни удивительно, и на вилле «Фернан». Монте-Карло, точно некий скалистый остров, словно плыл в девственно-чистых водах Лазурного Берега, омывающих Прованс. Похожий одновременно и на пеструю вышивку с увитыми бугенвиллеями особняками и виллами, и на крепость, этот город казался волшебной коробкой со сластями или невероятным свадебным тортом, украшенным позолоченными казино, отелями и кафе, которые делали ночь светлее дня и выглядели так, словно были сотканы из сахарных нитей и переменчивого света звезд. Вилла «Фернан» – большой каменный особняк, принадлежавший Эскофье, – формой своей в точности повторяла изгиб морского берега. Каждый вечер облака, уползая за линию горизонта, увлекали за собой и розовый диск солнца, окуная его в слепящую шумливую синеву моря.
«Тише, тише», – думал тогда Эскофье и продолжал писать.
На закате мадам Эскофье приказывала слугам раздернуть занавеси и настежь открыть окна, чтобы впустить в дом свежий вечерний воздух. В прохладные вечера душу грели пирожки с черной смородиной, всевозможные тартинки и сласти. Шорох набегающих на берег волн убаюкивал визгливых и шумных внуков, правнуков, внучатых племянников и племянниц – мадам и месье Эскофье теперь часто путали их имена, – и дети засыпали. Но тот же тихий рокот волн будил их по утрам, и воздух вновь звенел от взрывов детского смеха.
Впрочем, для Эскофье все это был просто шум. Страшно мешавший думать. И каждое утро он мечтал, чтобы поскорее наступил вечер – единственное время, когда он мог по-настоящему сосредоточиться, ибо вечером весь дом наконец затихал.
В тот последний год каждая маленькая победа давалась ему нелегко. Уже первый день мая принес несвойственную этому времени года жару; водяные смерчи носились по сверкающим волнам моря, как танцоры на балу, но никогда не касались земли. Виноград засыхал на лозах, не успев налиться. Когда же все-таки начались дожди, земля настолько пересохла и растрескалась, что мгновенно и с жадностью поглощала всю изливавшуюся с небес влагу.
Мадам Эскофье обнаружила, что грезит о первых днях своего супружества.
– Закрой глаза, – говорил ей тогда Эскофье. – Еда требует полного подчинения. – И он клал ей в рот аккуратно извлеченный из раковины морской гребешок. – Чувствуешь вкус моря?
Дельфина чувствовала. И не только соленый вкус моря и водорослей, но и вкус воздуха в тот момент, когда раковину выкапывали из песка.
– Похоже на приближающийся шторм. В сладком мясе гребешка чувствуется некий темный привкус. А ты что чувствуешь?
– Руку Господа.
Ее ничуть не удивляли эти слова. Ведь Эскофье был, в конце концов, истинным католиком.
Пока Дельфина не вышла замуж за Эскофье, всякое поглощение пищи казалось ей занятием чрезвычайно скучным. Ломтик поджаренного хлеба, яйцо, горстка овощей – ей, в общем-то, было все равно, что есть. Ей хотелось одного – писать стихи и существовать как можно дальше от этого глупого мира. Любовь, материнство, брак – все это вызывало у нее презрение. «Женщине, чтобы выжить, нужна только она сама».