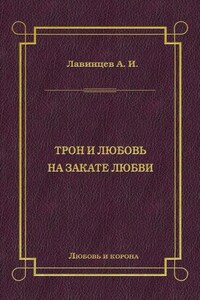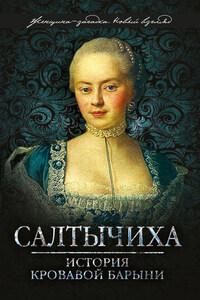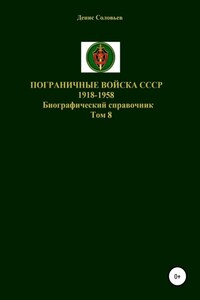Ранней неприветливой весной 1675 года по сквернейшему проселку от границы к пауку-Москве двигался боярский поезд.
Видно было, что пробиравшийся из пограничной глуши боярин был не из важных, так, захудалый какой-то, а если и не захудалый, то настолько обсидевшийся в злосчастной и Богом, и людьми забытой мурье, что позабыл там, в своей берлоге, как живут люди на свете. Там-то, у себя, он, каков с виду ни был, – всем и хорошим, и важным казался, хотя бы потому, что видней его во всей захолустной округе никого не было; но то, что было хорошо для мурьи, для подмосковных мест, всякие виды видавших, казалось жалким, убогим и смеха достойным.
Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная челядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лошаденки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны – просто срам один.
Однако боярская челядь как будто и не сознавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречных проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади шарахались с перепугу, а их седоки, с удивлением взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему свое нелестное замечание.
Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.
Этот неважный поезд принадлежал московскому дворянину Семену Федоровичу Грушецкому, внуку польского выходца, застрявшего в Москве во время лихолетья. Его отец еще молодым человеком за какую-то дворцовую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, то есть попал в опалу. Там, в глуши, он и скоротал свой век, и, умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему состариться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, еще недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но какие хлопоты ни предпринимал Семен Федорович – все было напрасно. Вокруг Тишайшего во все время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьем один другого, и на Москве никому не было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нем у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика, понятно, и вовсе некому было думать.
Но в конце концов Семен Федорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитными о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего, только ради того, чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное Чернавское воеводство. Впрочем, в том положении, в каком был Семен Федорович после смерти своего опального родителя, и это было хорошо.
Чернавск был хотя и захудалым городишком, но все-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семен Федорович, недолго сбираясь, тронулся на свое воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.
Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек – Грушецкий был вдов, – и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житье в Чернавск.
Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганю-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы подышать сырым, но чистым весенним воздухом.
И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!
Предки-поляки передали ей типическую польскую красоту, растворившуюся в русской крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точеные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щеку, голубые с легкой поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся кудряшками на высокий лоб, – все это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд, надолго оставляя по себе прочно вливавшееся в память впечатление.