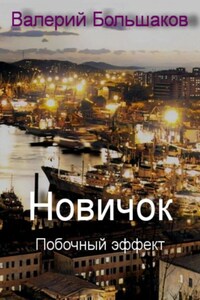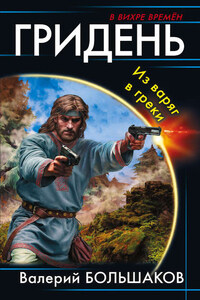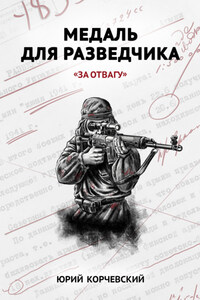Вторник, 7 ноября. Вечер
Щелково-40, улица Колмогорова
Губы уже припухли целовать вертлявую, хихикающую Ритку, но я с наслаждением отдавался этому восхитительному занятию.
Прерывисто дыша, донна резво елозила подо мной. Черноволосая головка запрокинулась, напрягая беззащитную шею… И как не приложиться к трепетной, пульсирующей жилке?
Бывало, в минуты любовных бдений мое чутье рывком обострялось – в точности, как сейчас. Я с удовольствием повел носом, жадно вбирая нежный запах женщины – и свой, сухой и терпкий дух, отдающий каштановым цветеньем.
– Намажься! – жарко выдохнула Рита. – Или, давай, я…
– Хитренькая! – оспорил я ее желание, дрогнув улыбкой. – Ты и вчера мазалась, и позавчера. В очередь, в очередь!
Выслушивая грудной смешок, привстал, опираясь на руку, и дотянулся до заветного флакончика – Наташа передала его мне в последний день октября, а пузырек уже наполовину пуст…
Я осторожно сел, тиская коленями женские бедра, и зажал сосудец между ладоней. Хватило пары секунд, чтобы «молодильное зелье» вспухло перламутровой шапочкой, будто сбегающее молоко. Три капли на ладонь… Ладно, четыре.
Потерев руки, раскатав по пальцам холодные росинки, я вжал обе пятерни в тугой Ритин живот. На мгновенье замер в нетерпеливом предвкушеньи, и…
Донна сладко застонала, выгибаясь, подаваясь ко мне, разевая дивный рот, словно для долгого крика. Но тут нахлынула прибойная волна Силы…
Она стерла меня, словно имя, начерченное на прибрежном песке – и растворила в Рите, сливая тела и души.
Там же, позже
Под утро я проснулся с часто бьющимся сердцем. Осторожно, чтобы не разбудить жену, расплел наши руки и ноги – мы так и спали, обнявшись.
Вот за что еще люблю диван в гостиной – крепкий он. Когда я сел с краю, и вмял босые ступни в пушистый ковер, наш «сексодром» даже не скрипнул.
Мельком глянув на галерею, чьи перила скалились в лунном свете, я встал. Юлька вчера легла поздно, мешая родителям в их амурных трудах, и будет дрыхнуть до десяти. Завтра не вставать – «ноябрьские» длятся целых два дня…
Мои губы повело в кривую. Рассказать бы нонешнему люду, как я в будущем отдыхал на «новогодних каникулах» – восемь выходных без перерыва!
Не поверят. Затянут: «Ну-у, ты как скажешь… А работать когда?» С девятого, когда ж еще… А там, глядишь, и старый Новый год!
Хотя… Стоит ли хвалиться узаконенным тунеядством, смущать весь наш советский трудовой народ? «Каникулы», дурацкое наследие «перестройки», остались в малодоступной «Гамме»… Мой рот скривился в брезгливой гримасе.
На «родину» меня точно не тянуло.
Сейчас там Чубайс с Кохом «чисто конкретно» разворовывают народное хозяйство СССР. Чиновные рыла братаются с криминалом, жабообразная Новодворская поносит «коммуняк», а бывший персек Свердловского обкома думу думает – как бы ему смухлевать на «демократических» выборах…
Да и черт с ними, со всеми! У нашей «Альфы» иное «прекрасное далёко». Знать бы еще, какое…
Неуверенно шагнув к камину, я замер. В выложенном камнем зеве очага дотлевали уголья, подернутые серым пеплом. Разжечь огонь? Голому телу зябко…
«Перебьешься, – решил я, направляясь к кухне. – Ритке под одеялом тепло, вот и пусть спит. Предрассветный сон сладок…»
Поднеся ладони к лицу, нюхнул. Слабые нотки зелья едва угадывались, навевая пленительные тени Слияния. Я с усилием отер щеки, словно удаляя истомные грёзы, и налил себе полстакана холодной, вкрадчиво шипящей минералки.
Игристая вода защипала горло, шибая в нос, даже слезы выступили.
«Крепка, зараза…»
Покачав стакан в руке, я бесшумно поставил его на салфетку, и глянул в окно. За стеклами стыла ночь.
В вязкой черноте тонули сосны, заборы, соседние коттеджи. Лишь издалека, путаясь в голых ветвях, протискивался свет фонарей и редких фар. Я потер плечи, прислушиваясь к тихому щелканью батарей.