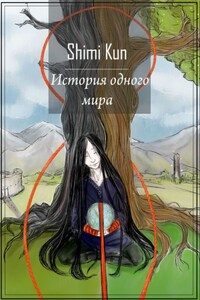В день шахтёра в Инте били таксистов. Эта была старая, привычная забава. Им припоминали всё за истекший год: и несданную с рубля сдачу, и маршруты в объезд, потому что «там ремонт», и тройные тарифы новогодней ночи. Но главное им припоминали водку, ту которой таксисты торговали круглый год, водку-самокатку, водку-палёнку, водку по тройной цене, какую даже на пьяном углу никто не ломил, опасаясь, что, шахтёры, не найдя на троих, от жажды спалят весь квартал.
Таксистов вылавливали у вокзала, где они, подняв стекла и не выключив двигатели, ёжились от страха, но ждали пассажиров с пассажирского Котлас-Воркута. Те, кто сидел в машинах, ещё успевали дать по газам, не обращая внимания на колдобины и ямы в асфальте, цепляя днищем об их острые края с жестяным скрежетом и отчаянно давя на гудок. Но тех, кто беспечно или хуже того в надежде на пруху, оставляли таксомотор на площади, а сами шли на перрон поближе к прицепным ленинградским вагонам, где пассажир пожирнее, потому и навар с такого гуще, тех били сладостно.
Их забирали с перрона, клали ладони на плечи и с обеих сторон сжимали мускулистыми пальцами засунутые в карманы руки. Их вели за здание вокзала, на заплёванный и зассанный пятачок в зарослях каких-то кустов и там молча проводили краткую красивую расправу, лупя по шее, отрывая рукава у кожаных курток, и вороты крепкой фланели клетчатых пакистанских рубах. Что говорить-то? И так всё понятно. Понятно за что, понятно, почему. Напоследок таксист получал по носу и потом, отплёвываясь, сморкаясь кровью и сопя, долго топтался на небольшом пятачке в запахе мочи, собирая, выпавшую из карманов мелочь, ключи и ломаные сигареты. Зачастую таксисты сами были бывшими шахтёрами, вышедшими на пенсию или ушедшими с шахты по состоянию здоровья. Потому всё понимали. И прощали. И зла на своих не таили. Об одном лишь они сожалели, что пока они приводили себя в порядок и шарили среди мусора в поисках ключей от машины, по перрону, шаркая, прошли с тяжелыми чемоданами пассажиры прицепных ленинградских вагонов поезда Котлас-Воркута. Пассажиры прошли по перрону, скрылись в здание вокзала, появились из здания вокзала уже со стороны площади и сели в подошедший автобус.
1
Андрей попал в Инту в конце восьмидесятых и остался теперь уже, как думал сам, навечно. Северное небо врачевало, как врачевало до того сотни других несчастных. Оно буднично собирало молитвы, запечатывало в шершавые наощупь конверты из крафтовой бумаги и отправляло дальше туда, где если и жил адресат, то никак не проявлял свое существо.
На зоне он провел только год, потом был переведен в колонию-поселение, в которой по попустительству времени, потерявшему власть над людьми, жил вовсе уже вольно.
Наслушавшись рассказов «бывалых», начитавшись ещё за время службы статей в «Огоньке», ждал он от заключения лютого человеческого бесстыдства. И когда на этапе попал под горячую руку мальчишек-конвойных, получается, что всего-то на полтора года младше его призывом, и лежал в проходе, в луже собственной мочи из лопнувшего полиэтиленового пакета, прижав локти к животу и вжав голову в плечи, пока били пахнущей гуталином кирзой, думал, что это только начало, и был готов смириться и уйти в такую глубину своей души, куда не долетают даже звуки орущих за сопками гусей. Но на зоне ему, против всех ожиданий, показалось спокойно и как-то справедливо. Эта почти математическая модель мироустройства, когда от каждого поступка протянута ниточка к последствию. И ниточки те видны, и морозным утром они блестят от инея и на них, как на провода, может сесть малая таежная пичуга, чтобы чирикнуть что-то напоследок, перед тем как вовсе пропасть.