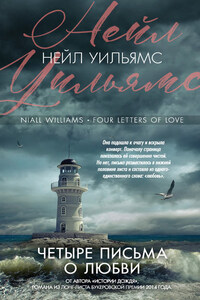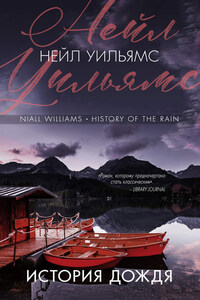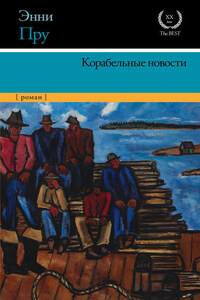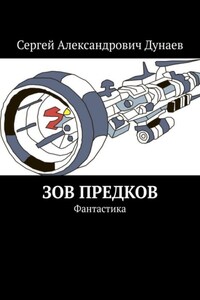1
Бог впервые заговорил с моим отцом, когда мне было двенадцать.
Бог был немногословен. В тот первый раз Он ограничился тем, что велел папе заняться живописью, после чего снова вознесся на свой окруженный ангелами престол, чтобы, глядя на мокрый серый город сквозь прорехи в дождевых облаках, гадать, что же будет дальше.
В то время мой отец еще работал на гражданской службе. Он был высоким, жилистым и невероятно худым. Казалось, что кости, туго натягивавшие его кожу, вот-вот проткнут ее изнутри. Волосы у него начали седеть, когда ему было всего двадцать четыре, из-за чего он выглядел намного старше своих лет. С годами папа и вовсе стал похож на сурового старика-аскета – он даже не мог пройти по улице, чтобы не привлечь к себе чьего-нибудь внимания. Прохожие оборачивались. Отпечаток чего-то необычного, лежавший на всей его фигуре, подчеркивали молодые ярко-синие глаза и крайняя молчаливость. Несмотря на то что в семье я был единственным ребенком, он почти никогда ничего мне не говорил – за первые двенадцать лет моей жизни я в состоянии припомнить всего несколько случаев, когда папа обращался непосредственно ко мне. Да и то, что́ он говорил, почти совершенно изгладилось из моей памяти, поэтому вместо слов мои детские воспоминания состоят почти исключительно из картин и образов, похожих на моментальные снимки. Вот туманным ноябрьским вечером папа приходит с работы. Он в сером костюме. Папа входит в дверь, и я слышу, как на столик с телефоном, который стоит в нашей прихожей, шлепается его портфель. Потом до меня доносится скрип ступенек и шаги над кухней – это он надевает вязаную кофту и спускается к чаю. Вот в ответ на какой-то мамин вопрос его высокий, похожий на меловой утес лоб слегка приподнимается над верхним обрезом газеты, которую он читает. А вот новогоднее купание в замерзающем море у побережья Грейстоуна. Я держу полотенце, а папа – болезненно-худой, с выпирающими ребрами и торчащими ключицами, похожими на перепутавшиеся «плечики» в мешке для одежды, – медленно идет к воде. На камнях пальцы его ног загибаются вверх, а в каждой руке он как будто держит по невидимому чемодану. Чайки не отлетают в сторону при его приближении – должно быть, потому, что на фоне серо-голубого моря прозрачная бледность его обнаженного тела схожа с оттенком ветра. Он тонок и прозрачен, как воздух, и кажется, что первая же высокая волна, налетев на его погружающиеся все глубже чресла, переломит его пополам, словно сухую облатку. Каждый раз я думаю, что море вот-вот подхватит папу и унесет, но этого не происходит. Окунувшись, он выходит обратно на берег и берет у меня полотенце, но не вытирается, а просто некоторое время стоит неподвижно. Я одет в куртку с надвинутым капюшоном, «молния» застегнута до самого верха, но я все равно ощущаю резкий, пронизывающий ветер, который леденит его кожу. Но папа продолжает стоять, глядя на свинцово-серый залив, и не торопится одеваться, чтобы вступить в Новый год. Он еще не знает, что Бог вот-вот заговорит с ним.
Папа рисовал всегда. Часто летними вечерами, скосив траву на лужайке, он садился в уголке сада с альбомом и карандашами, то нанося на бумагу линию за линией, то что-то стирая, пока свет уходящего дня медленно мерк, а мальчишки в конце улицы гоняли старый мяч. Прежде чем забраться под одеяло, я, восьмилетний мальчуган со слабым зрением и россыпью веснушек на лице, частенько смотрел на него из окна своей комнаты на втором этаже, и в этой угловатой, неподвижной фигуре мне мерещилось что-то столь же спокойное, доброе и чистое, какой была для меня молитва на сон грядущий. Бывало, мама приносила папе чай. Она восхищалась его талантом, и хотя папины рисунки никогда не висели на стенах нашего маленького дома, многие из них нередко дарились родственникам или просто соседям. Не раз я слышал похвалы в его адрес и испытывал прилив мальчишеской гордости каждый раз, когда замечал в уголке рисунка маленькие У. и К. – его подпись. Часто, возя по ковру свой игрушечный поезд, я с восторгом думал о том, что ни у кого больше нет такого папы, как у меня.