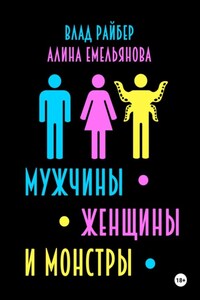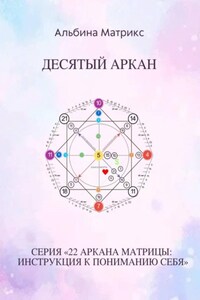Чумной день
«Отринь ночь – прими день».День – есть избавление от всех кошмаров. От всех невзгод. Нужно только поверить.И группа студентов кинотеатрального вуза верит. Они отправляются в отдалённую деревню Очаг, где, по слухам, могут помочь их смертельно больному другу Кириллу. У них не осталось надежд, кроме одной – на старого бога, якобы объявившегося в деревне и творящего чудеса вплоть до воскрешения из мёртвых. Насколько правдивы эти слухи? И как далеко можно зайти ради веры? Искренней или ложной. Книга содержит нецензурную брань.
| Жанры: | Мистика, Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Чумной день
Книга заблокирована.
Вам будет интересно