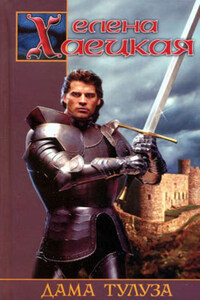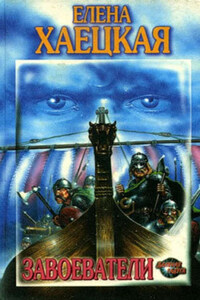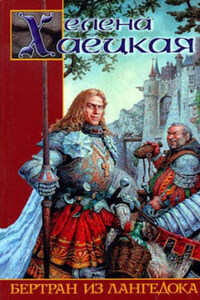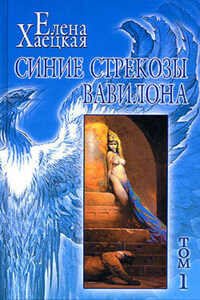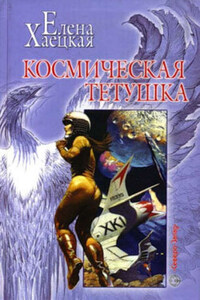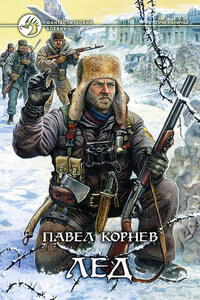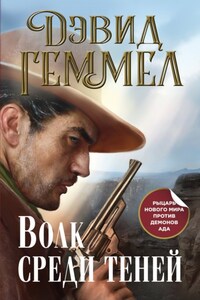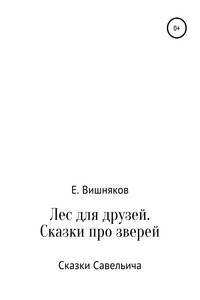весна 1216 года
В тот час, когда два корабля – два купеческих толстяка – ткнулись носом в Марсальскую гавань, пошел дождь.
Хлопнули мокрые паруса. Перекрикивая шум дождя, погонял моряков венецианский комит, низкорослый, с крепким брюхом и луженой глоткой.
Из туго набитого корабельного чрева вывели ошалевших от морской качки лошадей, осторожно повели их по берегу, успокаивая лаской и тихой речью.
– Долго там еще? – крикнул один из пассажиров.
Венецианский комит, не стесняясь в выражениях, велел тому не путаться под ногами, покуда судно не ошвартуется.
Поскольку никто не ответил, пассажир соскочил на нижнюю палубу – замечательно ловкий, несмотря на изрядный возраст, – а оттуда, пока не успели остановить, – прямо за борт и, щедро поливаемый дождем, по пояс в воде, смеясь, пошел к берегу.
Один из конюхов передал поводья своего коня другому и поспешил туда, где старый сумасброд пытался выбраться на причал.
– Благодарю, – величественно молвил тот, хватаясь за руку конюха. Хватка у старика цепкая, ладонь – крепкая, в благородных мозолях от узды и рукояти меча.
Конюх вытащил его на берег и, низко склонившись, поцеловал эту руку. Старик потрепал конюха по волосам и еще раз поблагодарил; после же задрал лицо к небесам, извергающим потоки дождя, и захохотал во все горло.
Этому человеку было шестьдесят лет. В юности он был замечательно хорош собой, о чем нетрудно догадаться, видя его сына. Юноша тоже сошел на берег и стоял сейчас рядом со своим мокрым до нитки отцом.
Оба высокого роста, темноволосые (старик так и не поседел), темноглазые, с удлиненным лицом; нос – с характерной тонкой горбинкой; на остром подбородке – ямка, у отца отчетливая, у сына почти незаметная, как бы смягченная.
Старику подвели коня. Поцеловал животное в преданную морду, взлетел в седло. Конь завертелся, танцуя. Жидкая грязь полетела из-под копыт во все стороны. Всадник, счастливый, засмеялся опять.
И все вокруг – будто он оказал невесть какое благодеяние, окатив потоками грязи, – закричали, захохотали, принялись бить в ладоши, а у кого нашлись – дудеть в самодельные дудки.
– Наш граф вернулся! Граф Раймон вернулся!
Рукоплескали даже венецианские моряки, которым до всего происходящего, вообще-то, не было никакого дела.
Веселье, как лесной пожар, неслось по марсальской гавани.
– Вернулся! Вернулся! Раймон вернулся!
А Раймон крутился на коне, омываемый весенним ливнем, – опозоренный, разбитый в боях, униженный, лишенный своих владений, – и смеялся от радости.
* * *
Оба Раймона, отец и сын, возвращались из Рима. Худые вести давно уж опередили их, а вот – гляди ты, оказалось, что по-прежнему любо имя Раймона народу наречия провансальского…
Год минувший, 1215-й от Воплощения, завершался церковным собором. До сих пор в ушах звенит – так друг на друга орали у апостольского престола, приличия позабыв, епископ Тулузский Фалькон и старый граф Рожьер де Фуа, Рыжий Кочет, давний раймонов друг. Любо было поглядеть, как наскакивали друг на друга.
Фалькон и всегда-то был тощий да бледный, с виду постный, а тут и вовсе синевой пошел – от беспокойства. Рыжий – тот, напротив, багрецом налился. Встрепанный, всклокоченный, с круглыми светлыми глазами, с тонкой вытянутой шеей – тронь такого, заклюет, забьет шпорами.
Графа Фуа призвали на собор, пред лице святейшего апостолика, дабы дал отчет в некоторых своих деяниях.
Во-первых, как это граф дозволил, чтобы на его землях, на горе Монсегюр, в тридцати верстах от родового замка Фуа, воздвиглось гнездо еретическое? Ибо не может такого быть, чтобы от взора графского ускользнуло, как кишат еретики, точно змеи в брачную пору.
На то бойко отвечал рыжий граф: